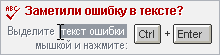Жил паренек в деревне Овсянка
1 мая лауреату Государственных премий СССР и РСФСР, Герою Социалистического Труда и кавалеру ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Виктору Астафьеву — 75 лет
...Небольшая фотокарточка военных лет... На ней Виктор Астафьев без пилотки, коротко остриженный, с прямым, открытым взглядом, а на солдатской гимнастерке — орден Красной Звезды, медаль, гвардейский значок. И нашивки за ранения.
— Победу я встретил в резервном полку, — вспоминал писатель, — в городе Ровно, куда попал после госпиталя. В момент, когда объявили по радио о победе, я стоял у ворот казармы на посту и выпалил всю обойму из винтовки. Это был мой личный салют. Мирную жизнь начинал на Урале, в городе Чусовом, куда приехал с женой. Начинал с заботы о куске хлеба и уголке для жилья, ибо гражданскую профессию потерял, здоровье тоже, образования не было. Словом, как и все мои друзья окопники, входил в послевоенную жизнь трудно...
После войны он работал на заводе, потом в маленькой городской газете, где и печатались первые рассказы, потом учился на Высших литературных курсах, но это уже, когда выпустил первые книжечки прозы, когда был принят в члены Союза писателей СССР. Кстати говоря, первые вещи его были написаны в основном о детях и для детей.
Дорога к сегодняшней известности была очень долгой и очень непростой. Собственно говоря, что считать известностью? Первые книжки — это одно. Первые публикации в “Новом мире” А.Т. Твардовского — это другое, это шестидесятые годы, потом, когда общественное внимание завоевал журнал “Наш современник” он был одним из тех авторов, чье участие и принесло журналу признание и популярность. Это семидесятые и восьмидесятые годы. Кстати, знаменитый роман Виктора Астафьева “Царь-рыба” печатался с продолжением именно в “Нашем современнике”, был выдвинут журналом и Союзом писателей РСФСР на Государственную премию страны и удостоен этой высокой награды. А с началом перестройки мало по малу Виктор Петрович расходится со своими товарищами и единомышленниками Валентином Распутиным, Юрием Бондаревым, Владимиром Крупиным, Василием Беловым. Сначала заявляет о создании независимой ассоциации писателей, это в то время, когда себя выделили в отдельную организацию “апрелевцы” — так называемые писатели в поддерживающие перестройку, а потом вообще порвал с Союзом писателей России и связал себя с прозападным российским Пенклубом и был удостоен в 90-е премий, к которым писателей так называемого патриотического крыла ныне и близко не подпускают.
Но это теперь. А что было в те годы, когда Астафьев становился на ноги — в детстве, в юношестве, в молодости? Ведь именно там все истоки.
Детство знаменитого ныне писателя было очень нелегким. Уроженец села Овсянка, что под Красноярском, он рано потерял мать, а когда отец, человек тяжелый, с изломанной судьбой, привел в дом мачеху, жизнь совсем не заладилась. А уж если так получается, то не жди добра. То после скандала убегает мальчик из дома к реке, на “свой остров”, а то и вовсе (уже на Крайнем Севере, в городе Игарка) не остается ничего кроме как идти в детский дом. Обо всем этом рассказал потом Виктор Астафьев в повестях “Последний поклон”, “Кража”, “Перевал”.
Книги эти, как и другие, принадлежащие его перу, выдержали много изданий, некоторые из них стали основой для киносценариев. Поэтому вряд ли стоит их пересказывать. Но совсем вкратце о тех временах: после шестого класса уже сам зарабатывал на хлеб. Сначала письмоводителем, конюхом и коновозчиком при сельсовете. Позже поступил в ФЗУ, определили его учиться на составителя поездов, начал работать, потом попросился на фронт. Случилось это после того, как на станции довелось ему видеть умерших от голода по дороге из блокадного Ленинграда.
С особым теплом вспоминает о своем школьном учителе. Вот несколько мест из рассказа “Больше жизни”, одном из многих, составивших книгу “Затеси”.
“Мне в детстве повезло. Очень повезло. Литературе обучал меня странный и умный человек. Странный потому, что вел он уроки с нарушением всех педагогических методик и инструкций”.
И дальше Виктор Петрович описывает, как горячился и даже ругался учитель, когда слышал бесстрастное чтение учениками произведений Лермонтова.
“Чтобы Лермонтова понять — любить его надо. Любить, как мать, как Родину. Сильнее жизни любить. Как любил учитель из Пензенской губернии.
И он рассказал.
Узнавши о гибели Лермонтова, учитель из глухого пензенского села в одну ночь написал стихотворение “На смерть поэта”, а сам пошел после этого и повесился.
Заканчивая этот короткий рассказ, Астафьев говорит:
“Так я и не знаю, был или не был учитель в Пензенской губернии, из потрясения и горя которого вылилось единственное стихотворение. Но Лермонтова с тех пор люблю, как мать, как Родину. Больше жизни люблю”.
Книга “Затеси” стоит в ряду написанного им несколько особняком. Собственно говоря, так всегда бывает с книгами автобиографического жанра. И пусть “Затеси” формально не относятся к автобиографическим вещам, но это цикл рассказов, написанных от первого лица, в которых впрямую говорится об авторе — о его детстве, его войне, о том светлом и радостном, горестном и больном, что накопилось за десятилетия его большой и долгой жизни.
“Затеси” — дословно означают, как пояснял писатель, зарубки на стволе дерева, но как название книги, по смыслу — зарубки в памяти, отметины жизни. Сегодня, в канун 75-летнего юбилея знаменитого прозаика, мы не будем касаться его самых громких произведений, его “Царь-рыбы”, этой поэмы о могуществе природы и месте человека в ней, его “Печального детектива” — книге о мрачной жизни современников и о его последней книге о войне “Прокляты и убиты”, где писатель нарисовал столь страшный фронтовой быт, что удивляешься, как из этой смертельной каши мог выйти человек с чем-то светлым в душе. Заметим, однако, что последние произведения писателя, названный роман, повести о войне — воспринимаются читателями и писательской общественностью совсем не единодушно... И причина тут прежде всего в отношении писателя к прошлому страны, к Советской власти, о которой он теперь высказывается в резко нетерпимых тонах.
Почти двадцать лет назад мне довелось беседовать с Виктором Петровичем о войне и фронтовиках. Среди прочих был задан вопрос и о фронтовом братстве. Астафьев ответил так:
— Фронтовое братство с годами переросло в какое-то уж совсем близкое родство. Все, что делаю, пишу, — сверяю совестью фронтовых друзей — людей трудовых, порядочных и нежных. Войны в своем творчестве я коснулся “лишь краешком”, все боялся неумением оскорбить память павших и живых. В дальнейшем мне хотелось бы написать о самом тяжком, что было на войне, и о ее быте, и о бытии в окопах.
Так эти слова и вошли в текст беседы для газетной полосы. Но не вошли другие слова, произнесенные разгоряченным коньяком по сути кричащим Виктором Астафьевым: “Фронтовое братство? Братство кого с кем? Я войну на передовой все годы отмотал, одной земли окопной нарыл неимоверное количество, а в двадцати и в пятидесяти километрах позади передовой, в тылу штабные офицеры на чистых постелях с бабами спали, возы личного барахла имели. И они ведь тоже фронтовики. С ними, что ли, братство? Иной раз такая злость забирала на этих штабных, что дай нам волю — повернули бы пушки да по своим бы шарахнули!
Эти астафьевские фразы занозой остались в памяти. И вот сейчас, перелистывая последние военные произведения писателя, опубликованные в “Новом мире”, думаю о том, что Виктор Петрович в них дал волю тем самым чувствам, о которых в порыве откровенности поведал мне, несколько ошалевшему даже от такой неожиданной прямоты. Сегодня он тоже делает порой заявления, просто шокирующие ветеранов. Да только ли их? Чего стоит хотя бы фраза, что Ленинград не надо было оборонять, тогда, дескать, и не было бы многочисленных жертв блокадников. Да какое он право имеет, — возмущаются пережившие все ленинградцы. И их можно понять. Но погибшие своего мнения высказать не могут.
Война — особая тема в отечественной литературе. Но все меньше на свете фронтовиков. Смотрите: ведь тем, кто уходил на фронт восемнадцатилетними, уже по семьдесят пять. Как Астафьеву. Как Бондареву. Как Носову... И у каждого своя война.
Двадцать три года отвоевавшему свое герою рассказа “Горсть спелых вишен”, то есть самому Виктору Астафьеву. Отстал после госпиталя от эшелона, попал в комендатуру, где его покормили и пообещали отправить дальше, а пока посоветовали отдохнуть. Вот он прилег в скверике с книгой “Кобзарь”, а дальше строки “Ревет и стонет Днепр широкий!” — не читается, потому что в глазах встает страшная картина форсирования Днепра под огнем фашистов.
“Закроешь глаза, и вот оно, продырявленное висячими фонарями черное небо, и внизу распорется очередями трассирующих пуль черная вода, и крики, крики, крики.
Десятки тысяч людей кричали разом. Им надо было добраться до другого берега, а плавать умели не все, и добирались совсем не многие...
Ревет и стонет Днепр широкий! Широкий, очень широкий Днепр, особенно когда переплываешь его под пулями и минами, в одежде и с автоматом. Нет тогда на свете шире реки.
Не переплыли эту реку, в ночи кажущуюся без берегов, мои друзья Ванька Мансуров, Костя Выгонов. Венька Крюк. Мы вместе росли, вместе учились. И чьих только друзей нет в этой реке!
Кипит вода от пуль, гноем и кровью оплывают фонари в небе, и гудят, гудят самолеты.
Когда же они перестанут гудеть? Когда перестанут выть? Ведь должна же, должна когда-то заглохнуть война в сердце, раз она замолкла на земле!”
Нет в этом рассказе В. Астафьева слов, дескать. Никогда она в моем сердце не замолкнет и через десятилетия будет звучать артиллерийская канонада и голоса бойцов и командиров, с которыми делили не только нехитрые фронтовые харчи, но и смертельную опасность в каждом бою. Слов таких нет, а чувство, чувство огромной силы есть, и мы понимаем — именно оно заставляет писателя вновь и вновь возвращаться к тем годам, месяцам и дням.
— Самый памятный и самый страшный бой произошел при мне в последнюю ночь разгрома Корсунь-Шевченковской группировки фашистов, — делился, отвечая на вопросы корреспондента “Советской России” в 1980 году Виктор Астафьев. Перечитывая сейчас эти слова писателя, я снова удивляюсь его гуманизму, ведь он здесь сокрушается о бессмысленных жертвах... противника. — Может, оттого, что бой происходил ночью, во время снежной бури, может оттого, что к этой поре во мне уже была утолена в какой-то мере жажда мести, не было уже ни торжества, ни злорадства, ибо дралось с нами уже не войско, а полуобезумевшее сборище. Из многих тысяч фашистов до своих добралось лишь человек двести пятьдесят.
Впоследствии этот ночной бой я изобразил в повести “Пастух и пастушка” так, как видел и ощущал его, отчетливо уже сознавая, что гуманист, тем более писатель, не имеет права кричать: “Убей!”
В ту же пору Виктор Петрович прислал нам в “Советскую Россию”, где я работал в отделе литературы, письмо, полученное от одного из читателей. Тоже фронтовика, тоже инвалида войны (сам Астафьев после тяжелого ранения почти не видит одним глазом). Письмо это пришло к писателю из далекого степного села. В коротком вступительном слове писатель говорил, что такие письма, где авторы рассказывают о своей жизни и “своей войне”, рассказывают просто и бесхитростно, достойны публикации, ведь они — свидетельства подвига нашего народа, а потому было бы хорошо, если бы журналы чаще обращались бы к такого рода материалам. Газета напечатала письмо с комментарием В. Астафьева. На публикацию откликнулась добрая сотня читателей. Отклики эти стали поводом для нового выступления писателя о том, как внимательно надо относиться к заботам фронтовиков, инвалидов войны...
Астафьев — человек отзывчивый, душевный и нередко очень резкий. Не раз мне доводилось беседовать с ним на самые разные темы, и обращал внимание на то, что Виктор Петрович никогда не смягчает свои оценки, никогда не округляет углы. Он никогда не задумывался о такте и своей прямолинейностью часто обретал врагов. То в одном рассказе обидел писателей-грузин, и они показательно покинули писательский съезд, не желая находиться с Астафьевым в одном зале, то, отвечая на письмо историка Натана Эйдельмана, стал обличать евреев во всех смертных грехах, в том числе и в ритуальном убийстве царской семьи. А Эйдельман, ныне покойный, тогда возьми да предай огласке переписку. Какой шум тогда, в начале перестройки, поднялся! Из Астафьева пытались сделать человеконенавистника, страшило, аморального типа. Но вопрос-то в том, что именно аморально: сгоряча что-то брякнуть в частной переписке, будучи задетым за живое провокационными вопросами и замечаниями или публиковать частную переписку без всякого разрешения....
Бывая на встречах писателя с самыми разными аудиториями, я всякий раз обращал внимание: обычно спокойный, он становится резким, взрывным, когда речь идет о несправедливости по отношению к человеку или о бездумном обращении с природой. Вообще мир природы ему бесконечно дорог. Ей посвящены многие страницы его блестящей прозы. Вот, например, рассказ “Осенью на вырубке”, в нем есть такое признание:
“Таскаясь с ружьем лет с двенадцати, исходил я всякой тайги много: сибирской, заполярной, уральской, вологодской... Вообще-то на зверя я почти не охотился. В детстве бывал раза два на маральих солонцах, и когда при мне убили марлуху, стали ее свежевать, я разревелся и убоину есть не мог. Привыкшие думать, что на меня напущена порча, родственники перестали брать меня на охоту.
В войну довелось мне раза два ходить за козами по снегу. На фронте случалось, стрелял кур, уток, и “в руках не дрогнул карабин”, коли добывали на еду раненых горемык лошадей, брошенных в поле.
После войны мне никого не хотелось стрелять, но нужда заставляла, и — грешен, ох, грешен! — много истребил я на Урале тетеревов, уток и в особенности рябчиков.
После окопов, смертей и военной толчеи тянуло от суеты, гама и рева побыть наедине с собой. Охота на рябчиков с манком — уединенная, тихая, иной раз за день километров тридцать-сорок сделаешь, да все по старым проселкам, по заброшенным дорогам, по поймам речек, вдоль логов и ключей, — красот всяких насмотришься, приключений тыщи изведаешь, надышишься, отойдешь душою...”
Рассказ-то этот, собственно, о том, КАК встретился автор один на один с матерым медведем. Три-четыре шага отделяют охотника, неожиданно наткнувшегося на зверя, который, видно, своеобразную засаду устроил на тропе, то ли просто мед себе тут добывал.
А ружье-то мелкой дробью заряжено, охотник стволы и не поднимает. Тут смотри на медведя, и пусть он не увидит в твоих глазах ни страха, ни ярости. И человек выдерживает это испытание, решение его единственно верное. “Уходи!” — спокойно говорит он зверю. А тот словно ждал этих слов — уходит в чащу.
Герой рассказа размышляет о случившемся — дескать. А как бы дело повернулось, если бы испугался или нацелил бы двустволку на медведя или бы, более того, выстрелил? Чем бы кончилось? Не собственной ли смертью?
А вот другой рассказ — “Бедный зверь” о том, как во время боя где-то в Карпатах, на артиллерийские позиции вдруг пришел из горящего леса медведь, ходил от одного расчета к другому, словно защиты у людей просил, а его отгоняли, сначала боясь шатуна, потом уже смеясь и куражась над ним. А тот в орудийном грохоте, словно человек, потерявший себя, разорался, расплакался, лапами голову закрывал — контузило. Потом нашли его поодаль мертвым, лежащим, охватившим передними лапами уши и морду...
Кончился бой, хоронили погибших солдат. Закопали и бедолажного зверя. Вот и все вроде бы — два артиллериста сделали свое дело за нехитрым разговором и, утомленные адской своей работой за истекший день, — которую кто и выдержит кроме человека? — среди лесных пожаров и щелкающих по деревьям пуль ложатся спать, прижавшись друг к другу.
Главное, что хотел в этих рассказах передать нам писатель, так это, на мой взгляд, простую и очевидную мысль: люди, берегите живое! Смотрите, как она, наша природа, в своей сложности и целесообразности прекрасна, как мудра и величава, и если мы ее сыновья, то стоит же не жалеть сил, чтобы хранить ее, нашу матушку-природу. Но на деле мы о ней, этой истине, далеко не всегда помним. Поэтому и важно познавать ее не через шаблонное изречение, а через искусство...
Всю войну он прошел рядовым. Не раз был ранен, перенес контузию. Рука ноет, напоминая о старой ране, болят легкие, он часто в холодную погоду, в дожди хворает простудой. Все это “наследие” военных лет.
Только полстраницы печатного книжного текста занимает рассказ “Какое сырое утро!”, но в нем весь Астафьев с его прямотой, удивительной доверительностью, уверенностью в том, что эта доверительность найдет понимание в отзывчивом читательском сердце.
“За окном мутно. Каплет с крыши. Каплет с черемух. Окна залеплены серым снегом. Он медленно сползает по стеклу, лепится к рамам, набухает... Как болят кости! Но надо вставать и работать.
Наступило утро. Все люди работают. И мне надо работать. Но как болят кости1 И старые раны болят.
Полежу еще маленько, чуть-чуть.
Я ведь заработал право полежать?
Но мало ли кто и чего заработал! Кто подсчитывал? Надо вставать. Вставать. Вставать.
О чем они, эти грустные, щемящие как человеческий стон, строки признания? Не о великом ли призвании человека на земле — трудиться, не о всепобеждающем ли мужестве?
Трудно комментировать такие строки, слово и чувство художника не заменить ничем, никакими рассуждениями, сколь глубоко оно не будет. Подчеркнем лишь: страницы астафьевской прозы проникнуты чувством грусти. Здесь — светлой грусти. И как бы ни безысходно трудно было герою писателя, в лучших его произведениях герой не перестает оставаться Человеком.
Так и это мучительное для старого израненного солдата сырое утро не прерывает светлой надежды, питающей сердце: “Может быть, завтра наступит ясное утро и перестанут болеть кости. Да и сейчас они уже глуше болят”.
Виктору Петровичу Астафьеву — 75 лет. День рождения у него 1 мая. Его дороги пролегли по странам освобожденной от фашизма Европы, он исколесил Сибирь, Урал, русский Север. Огромно его писательское наследие: вышло собрание сочинений в шестнадцати томах. Но вот какая вещь: последние вещи, опубликованные им, наполнены концентрированным чувством злости по отношению к прошлому. Жаль, что сегодня усталая душа солдата все жизненные тяготы, которых пришлось на его долю немало, готова возложить на несправедливости жизненного устройства советской власти. Неужто сегодня народу живется легче? На днях в Кремле на вручении награды Викторы Петрович был без советских лауреатских медалей и звезды Героя Социалистического Труда. Что это — жест? Не знаю. Но знаю одно: мне, да и не только мне очень хотелось бы, чтобы Виктор Астафьев оставался именно писателем, не давая разменивать свое честное имя политикам и политиканам.
Николай ГОРБАЧЕВ.
Заслуженный работник культуры РСФСР,
член Союза писателей России.