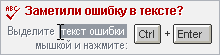Кавказские записки. В поисках потерянной дороги
В последние дни октября 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии, населенном осетинами и ингушами, произошли трагические события — межнациональный конфликт, переросший в вооруженное столкновение между гражданами одной республики.

Конфликт принес неисчислимые страдания обоим народам. За десять дней войны было убито 618 и ранено около тысячи человек, разрушено более трех тысяч жилых домов, уничтожены десятки зданий школ, детских садов, больниц и медицинских пунктов, магазинов и клубов. Почти сорок тысяч ингушей бежали в соседнюю Республику Ингушетию, где они до сих пор живут в крайне тяжелых условиях — в вагончиках, палатках, в плохо приспособленных животноводческих помещениях.
Несмотря на указы президента России, постановления правительства о порядке возвращения ингушей в места своего прежнего проживания, проблема не решена, медленно спадает острота межнациональных отношений. Видимо, десять дней, потрясших республику, оставили глубоко в земле и сердцах людей опасную мину, разряжать которую предстоит не одному поколению.
Почти весь прошедший год провел я в зоне чрезвычайного положения в составе Временного комитета Российской Федерации по ликвидации последствий конфликта. В своих записках хочу поделиться тем, что видел и слышал там.
Первое знакомство с Пригородным районом Осетии, лежащим всего в десятке километров от центра Владикавказа, было ошеломляющим. Будто время вернулось назад и я оказался в только что освобожденном от фашистов то ли русском, то ли украинском, то ли белорусском селе. Вновь вижу, как когда-то, взорванные и сожженные дома, пустые глазницы окон. Картины давно минувших времен дополняет надпись на фундаменте бывшей школы:
“Проверено. Мин нет. Сержант Киндинов”.
Сколько я видел таких надписей за годы войны — не счесть! И вот снова...
— Так было в Сталинграде, — говорю я своему спутнику Уруспи Гуриеву — главе администрации селения Куртат.
Да, — подтверждает он, — наши ветераны называют разрушенные села “малым Сталинградом”.
На совете старейшин
Через некоторое время в Куртате собрались бывшие односельчане, старейшины двух общин. По праву своего возраста, методом, как сейчас принято говорить, народной дипломатии, но без дипломатических хитростей и уверток они решили подумать, как жить дальше: открыто, по-добрососедски или с чувством обиды и мести?
Горячо говорил осетин Уруспи Гуриев. Он знал каждого из этих людей, вместе с ними работал, отмечал праздники — православные и мусульманские. Говорил, не скрывая боли:
— Здесь собрались старейшины одного села. Несколько лет назад никто не поверил бы, что мы можем вот так сесть за один стол. Время изменилось, но мы знаем, что, даже если мы сегодня поставим диагноз нашей болезни, вылечить ее за один день не сможет ни один целитель, для этого потребуются время и терпение. И все-таки мы должны говорить, говорить о том, как нам дальше жить без страха.
— Верно сказал, Уруспи, — соглашается ингуш Сулумбек Патиев. Я не понимаю, почему мы должны жить в страхе. Иду, например, в магазин за хлебом — в своем селе, в наш общий магазин, а рядом со мной автоматчик. “Сынок, — спрашиваю, — зачем ты за мной с автоматом ходишь?” А он отвечает: “Я тебя, отец, охраняю”. А зачем меня охранять? Я никакого преступления перед земляками не совершил, никого не убивал и никого не поджигал. И от кого меня охранять — от осетина Сергея Дзансолова, моего хорошего и доброго соседа, или от нашего бывшего агронома Уруспи Гуриева? Абсурд какой-то, такое в страшном сне раньше не могло присниться! Нам надо думать вот над чем: если мы собираемся жить на нашей общей земле, то надо забыть распри, обиды, черную кошку, пробежавшую между нами. И помнить: никакие власти — ни в Москве, ни во Владикавказе — не помогут нам, если мы сами — сосед с соседом — не найдем примирения.
Слушая выступления старейшин, я думал: действительно люди, пережившие изгнание, острее чувствуют последствия конфликта, чем высокие власти, мнящие, что только они владеют истиной. А подлинная истина в том, что кому-то потребовалось из корыстных или амбициозных расчетов столкнуть соседа с соседом, создать пропасть между породнившимися семьями, посеять вражду и недоверие между осетинами и ингушами — жителями одного села, одного района, гражданами одной республики.
— В семье, — говорит осетин Инал Тохтиев, — бывают споры и непонимание, а тут два народа, можно сказать, в коммунальной квартире стали косо смотреть друг на друга. А власти, которые знали об этом, продолжали, как попугаи, твердить: “Дружба народов, дружба народов!” Народ и сегодня не знает всей правды о причинах конфликта, потому что никто из властей так и не дал четкого объяснения случившемуся. Все ходят вокруг да около....
Прощаются седобородые односельчане Уруспи Гуриева, выходят на залитую солнцем улицу — и сразу попадают будто под струю холодной воды: школьная учительница-осетинка, которая должна бы “сеять доброе, вечное” вместе с тремя своими последователями набрасывается на своих бывших соседей-ингушей с грубой бранью. “Ингуши никогда не будут жить в Куртате. Пусть сначала гробы закажут, а потом собираются возвращаться”...
Многострадальное Тарское
Это большое село видом своим бьет в самое сердце. Одна его половина стоит, как стояла: целы все до единого дома, церковь, магазины, почта, клуб, правление бывшего колхоза. Вторая —ни одного целого дома, хозяйственного или служебного помещения. Словно смерч пронесся над ингушской частью села и не оставил тут камня на камне.
Когда, перейдя по прогибающемуся мостику через речушку-ручеек, вступаешь сюда — в ингушскую часть, невольно застываешь в оцепенении: рядом с цветущими плодовыми деревьями лежат приусадебные участки земли, поросшие высоким бурьяном: некому обрабатывать. И куда ни кинь взгляд — ни одного дома. Они не разрушены, а аккуратно разобраны, и все до единого кирпичика куда-то перенесены. Повернув вслед за дорогой, упираешься в шлагбаум. Автоматчики в камуфляжах, а чуть вдали — бронетранспортеры, за которыми — два десятка вагончиков. Уже длительное время горсточка вынужденных переселенцев пытается закрепиться за свою “малую землю”, против возвращения которых осетинские власти не выдвигают совершенно никаких возражений. Но ничего не получается у этих горемык.Трагизм положения и сложность его разрешения лежат чисто на бытовом уровне.
В Тарском даже в самые напряженные дни конфликта не было межнациональных столкновений, беспорядков. Здесь не прозвучало ни одного выстрела. Жители его ингушской части покинули село, по их словам, из-за страха: кругом в селах Пригородного района трещали автоматные очереди, раздавались взрывы гранат, с ревом и стрельбой проносились бронетранспортеры. Оставив почти все в родных домах, матери с детьми и старые люди уходили куда глаза глядят — в горы, леса, в соседнюю Ингушетию, рассчитывая вернуться через несколько дней, когда власти наведут порядок. Не дождались...
Через какое-то время из покинутых домов стали исчезать телевизоры, мебель, холодильники. Потом белье, одеяла, обувь. Когда брать стало нечего, очередь дошла до самих домов, их стали разбирать по кирпичику.
— Какой смысл в этом — сносить под корень то, что люди строили годами? — спросил я одного жителя осетинской части села, у дома которого были аккуратно сложены тысячи кирпичей, может, от дома соседа напротив.
— А чтобы ингушам некуда было возвращаться, — ответил он.
— Но ведь совсем недавно вы жили рядом и без распрей?
— Да, жили, а больше не будем.
— Но ведь ваши руководители считают, что беженцы должны вернуться.
— Если руководители хотят возвращения ингушей, то пусть поселят рядом с ними своих детей.
В тот же день я побывал в Назрани, столице Ингушетии. Во временном поселке беженцев, где у меня было много знакомых, я рассказал об этом разговоре бывшему заместителю председателя колхоза в Тарском. Он немного подумал, а потом твердо сказал:
— Убей меня аллах на месте, но я ни за что не поверю, что такие слова говорятся без чьей-то злой подсказки. Кому-то нужно, чтобы половина села лежала в развалинах...
Прошло пять месяцев, и усилиями властей, комитета по ликвидации последствий конфликта в Тарском появились первые двадцать семей вынужденных переселенцев. Опять останавливают меня у шлагбаума, загорающий на броне автоматчик спрыгивает со своей бронемашины и ведет к первым поселенцам. На скамейках, обрубках деревьев сидят седобородые старики в папахах, крепкие молодые мужчины.
— Я уже полгода мучаюсь, — вздыхает Руслан Хамидиев, — с ума можно сойти от безделья. Вон мой бывший дом, один фундамент остался. Разрешили бы, я его быстро бы построил заново. Нет, нельзя. Выйти за черту вагончиков тоже нельзя. В туалет, извините, под охраной ходим.
— Хочу спросить, — говорит Магомед Алиев, — если нам разрешили приехать сюда после долгой проверки, значит, за нами нет никаких грехов? Тогда почему к нам относятся хуже, чем к арестантам? Не забуду первую ночь после приезда сюда. Как на фронт попал. Войну я, правда, только в кино видел, а тут стрельба, взрывы, вспышки огня. Я всегда хорошо работал и горжусь этим. Работал бок о бок с соседями-ингушами. И жили не хуже, чем в других местах живут люди.
— Да, — вступает в разговор Хасан Азиев, — раньше как было? То сосед принесет из сада моим ребятишкам фрукты, то я готов помочь ему в чем угодно. Уходил из дома, отдавал ключи Владимиру, а он мне. А теперь что? Приехали вот в этих вагончиках, и никто не подошел и не спросил: “Хасан, может, помочь чем-нибудь?” Смотрят, как будто даже знакомы никогда не были.
— Помню, — говорит Руслан Хасиев, — как мы вернулись на родину в 1957 году после долгой ссылки. Ни кола, ни двора не было. Нашу семью приютила осетинская семья. Спасибо ей, никогда не забуду этого.
— Ну, скажите, — шепотом говорит мне Тамара Илиева, — зачем такая жизнь? В первую же ночь переселения наш вагончик обстреляли. Месяц пролежала в больнице, вроде жива, а голоса нет, так и не вернулся.
— Пойдемте в вагончик, — приглашает меня Исса Плиев, тезка и однофамилец осетинского героя Великой Отечественной войны. — Видите, это мое жилье — жилье одинокого мужчины. А вы бы решились привезти в такое место жену и маленьких детей?
Потом, когда я, несмотря на возражение охраны, остался на ночь в этом вагончике, то в него собралось все население поселка, и мы проговорили всю ночь, и это была для меня страшная ночь — ночь приобщения к человеческой трагедии.Со смешанным чувством тревоги и надежды покидал я Тарское, с этим чувством и рассказываю сегодня об увиденном и пережитом. Тревожусь за судьбу ставших близкими мне людей и надеюсь, что в конце концов победит здравый смысл: спокойствие и мир придут в дома ингушей и осетин, прошедших через невероятно трудные испытания и жертвы.Иначе можно потерять веру в силу человеческого разума.
Михаил ДОМОГАЦКИХ.
Владикавказ — Москва.