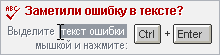ПОВОРОТ ОТ САБЛИ Президент не знал, кого представлял к высшему ордену России
Солженицын
все время живет с мыслью о родной Земле. И хоть
досталось ему на ней и выгнан был с ее пределов,
он вечно в думах о ее горе, ранах, судьбе.
На всех ветрах могучий дуб... Восемьдесят колец
времени, восемьдесят колец Праведника, и я
всматриваюсь в них, составляющих жизнь, многим
россиянам вовсе неизвестную.
Жизнь, превращенная в тараканьи бега. Чуть что, и
тебя раздавят. А если локтем, плечом, кулаком
проломить стену лабиринта, в который тебя
загнали, не давая возможности самому выбрать
путь, увидеть настоящий горизонт, обязательно
зная, что за ним.
Свет Созидателя ровный, мягкий. И как трудно уйти
от крика: “Включить прожектор!” Опять свет в
затылок, неужто снова бег по лучу и только в луче
и никуда в сторону...
И вот теперь, когда пришла почесть Кремля, он
отринул ее. “От верховной власти, которая довела
страну до нынешнего гибельного состояния, я
награду принять не могу”. Замалчивали пророка —
получайте... Его выдавливали с телеэкрана, не
давали высказаться по вопросам, с которыми он
знаком лучше всех. Помните, писатель говорил о
“надбрюшье” России — землях Северного
Казахстана, землях испокон веку принадлежащих
России, на которые заходили кочевники. Как просто
мы все пораздали — сибирские степи, Крым...
Из биографии Солженицына:
Окончил в Ростове-на-Дону среднюю школу, в 1941 году
— физико-математический факультет университета.
Специального литературного образования не
имеет. Перед самой войной заочно учился в
Московском институте философии, литературы и
истории. В сорок первом призван рядовым, а год
спустя после окончания артиллерийского училища
назначен командиром батареи. На фронте до
февраля 1945 года. Награжден двумя орденами. В
звании капитана был арестован (в его письмах была
прослежена критика Сталина). Приговорен к восьми
годам заключения. В 1957 году реабилитирован.
Офицеры материли Солженицына. В вагоне навряд ли
кто знал это имя, вдруг объявившееся в “Новом
мире”, тем более в этом ночном вагоне, бегущем по
только что уложенной колее от Ивделя к Оби.
Малочисленный штатский люд думал:
“Энкэвэдэшники полощат своего сослуживца”.
Поезд шел в зоне лагерей по рельсам начала
шестидесятых и ехали в нем те, кто правил
местными зэками, и вот в их мозгу не укладывалось,
что кто-то, а не они, стал повелевать поступками
подневольных людей. Может, это сильно —
поступками, но началось брожение умов, и человек,
брошенный на колени, неожиданно начал
подниматься в рост. И меньше стало заискивающих
взглядов, к которым так привыкли, ощущая свою
силу, эти офицеры в русской форме.
— Чего он там такого написал? Как бы почитать —
ведь не достанешь...
— Один день зэка-психа — не то Ивана Даниловича,
не то Ивана Денисовича.
— Денисовича...
— Переплет стальной сделали, суки, чтобы, значит,
не затрепалась книжица, и передают ее под большой
залог, из отряда в отряд. Читают взахлеб, сволочи.
— И я ее тоже взахлеб, ночь напролет.. Но это что
же выходит — все, на чем стоим, в распыл, на
обозрение, точно в цирке, мать его...
— Не у нас ли он сидел... Эх, знать бы заранее...
Вагон подбрасывало на плохо подогнанных стыках.
Коптили свечи в фонаре под потолком, кто-то
блевал, кто-то с жуткого похмелья стучал по бачку
прикованной к нему цепью кружкой, проверяя
наличие влаги, кто-то выл: “Шапку украли,
отдайте!”
Вагон был “элитный”, куда не всех... Здесь хоть не
дрались и не грозили “пером”. Здесь сидел у
входа, охраняя пол, мешковатый солдат. И было
ясно, что в этом вагоне места для Александра
Исаевича не существовало. Он болтался где-то на
подножке, и в этой черной ночи со свечным огарком
кто-то остервенело, яростно разжимая его пальцы,
вцепившиеся в поручни вагона, вовсю стараясь,
чтобы он полетел под откос, в болото приобской
тайги. Снова?
Он был для нас просто человеком из России. А кто
он, откуда, в какой среде рос — ничего не знали, да
особенно и не задумывались тогда над этим, на
одном дыхании читая “Один день Ивана
Денисовича” и “Матренин двор”. Была жизнь, нам
неведомая, страшная, и была жизнь, текшая вроде
как за перегородкой, до нас доносились ее голоса,
но мы словно ничего не слышали. И многие прятали
вещи Солженицына, боясь скорой расправы за
вольнодумие, — к раскрепощению умов призывали
писательские строки, и никакие-то там подпольные,
а это скорее всего и воспринималось
настороженно. Не к добру. В нашей проржавевшей
системе появился совсем другого голоса механизм,
который выпадал из общего кукареканья, а кто это
позволит кричать, когда еще все спят.
Я не собираюсь разбирать произведения
Солженицына. Его творения оцениваются по-разному
— да это и хорошо, но при этом не надо
отворачиваться друг от друга. И уж не гоже алмазы
подменять булыжниками. Налицо огромный талант,
русский, именно русский, чисто русский, и тут бы
сказать: “Слава Богу, дождались”, — а не
улюлюкать...
Так из какой он стороны земли нашей? Земляком
считают его в Кисловодске, однако подавляющее
большинство говорило:
— Наш он, родился неподалеку отсюда, в селе Сабле.
— Он появился на свет в вашем городе.
Таисия Солженицына, мать писателя приехала из
Сабли рожать в Кисловодск. Будущий лауреат
Нобелевской премии объявился в этом мире на
улице Пушкина (позже переименованную в Богдана
Хмельницкого) в доме своего дикого и свирепого
деда — Захара Щербака, местного дачевладельца. К
сожалению, дом, в котором родился Александр
Солженицын, не сохранился — его снесли где-то в
семидесятых годах. Так что памятную доску
цеплять некуда — хлопот, выходит, никаких.
Он наведается сюда, обязательно наведается,
Александр Исаевич. Сойдет с поезда и невольно
вскинет голову — да, да, там, чуть повыше перрона
его родная улица. И он устремится к ней. Пойдемте
и мы за ним, видя впереди его спину. Ага, так оно и
есть... Если раньше говорили: “Смотрите-ка, Федор
Иванович Шаляпин шевствуют”, — то теперь
услышим: “Здравствуйте, Александр Исаевич,
полной груди вам родного воздуха”. Не скудеет
талантами земля русская, только вот цветы на
могилы часто везем в Париж или еще куда...
Еще не зная, где родился Солженицын, я думал:
“Кто-то из великих тот город обязательно дал”.
Кривые, как повелела горная местность, улицы,
уютные и узкие, когда держишь беседу, идя по
разным сторонам. Город удивительного,
божественного воздуха и доброго яркого, почти не
пропадающего солнца. Прежде это был третий город,
венчавший отдых высшего общества на Кавказских
Минеральных Водах. Город, где стрелялись на
дуэли, ибо здесь, в Кисловодске, после промывания
внутренностей чудо-водами в Железноводске и
Ессентуках, умы занимала любовь и всякие другие
вольности, подступавшие к посильневшему после
лечения организму. И город очень и очень тихий,
город — дворик с полотен русских художников.
Здесь я и обнаружил Солженицына. В молве. Она-то и
вывела меня на местного искусствоведа Б.М.
Розенфельда. Он рассказал мне об исчезнувшем
архиве Марии Васильевны Крамер, очевидно, очень
близкой подруги матери Александра Исаевича. Она
умерла с десяток лет назад в Пятигорске, и будто
бы перед смертью уничтожила рассказы, письма,
фотографии Солженицына.
— Я познакомился с Крамер случайно в конце
шестидесятых и стал бывать у нее, — поведал Борис
Матвеевич, — Она-то и показала мне дом, где
родился писатель, познакомила с некоторыми его
произведениями, за что на нее озлился Солженицын.
Тем не менее он очень вежливо ответил на мое
письмо, в котором я просил уточнить место его
рождения (“Уважаемый Борис Матвеевич, я
действительно рожден в Кисловодске и невольно
люблю его за это”). И далее — о желании побывать
на родине.
— А что-нибудь из имевшегося у Крамер вы
переписали?
— Стихи, сочиненные в заключении; рассказы “На
родине Есенина”, “Захар — Калита”, “Крестный
ход”, “Старое ведро”...
— Из многого известного теперь.
— Но тогда в шестидесятые...
Крамер, Крамер... Не о ней ли, как подруге своей
матери, выведенной под именем Ксении, упоминает
Солженицын в “Августе четырнадцатого”: “Когда
Ксения приезжала на каникулы домой, ее приводила
в ужас атмосфера невоспитанности в семье.
Однажды она привезла с собой Соню (свою
подругу-еврейку), ее глазами еще острее ощутила
всю эту неотесанную первобытность и чуть не
сгорела от стыда”. Старый Щербак во время
семейных споров хватался за нож, избивая жену.
Наверное, огромную радость доставляли
маленькому Саше хождения в церковь, где
забывалась обстановка дома, где можно было
предаться детским мыслям и поговорить с Господом
о поведении деда. Какие высокие своды висели над
этой головкой? Может, там, под венчающим их
крестом найду возможность ближе познакомиться с
его детством и тайно переговорить с ним.
Я вошел во дворик голубой, очень домашней — так и
хочется привалиться к ней плечом — церкви. Шла
служба. И протиснуться туда, внутрь, поближе к
теплу голосов хора не представлялось возможным
— народу уже было плотно и на ступяном взгорке
входа в храм. В возрожденный храм. И
представилась эта картина, резкими штрихами
нарисованная Солженицыным. Застывший перст на
старушечьем лбу, чье-то испуганное: “Боже...”
Недоговоренная молитва... И будто меня кто-то в
спину толкнул, мол, посторонись, ишь, сопли
развесил. Малевали на крещеных стенах: “Религия
— опиум для народа”. Под корень ее, под самый...
Завтра и колокола наземь. “Первое впечатление
всей моей жизни, — пишет Солженицын, — мне было,
наверно, года три-четыре: как в кисловодскую
церковь входят остроголовые (чекисты в
буденовках) прорезают обомлевшую, онемевшую
толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая
богослужение, — в алтарь”.
Конечно, еще многое могла бы рассказать Ирина
Щербак. Но я не успел и к ней. Хотя умершую,
которая держала десятка три кошек, еще хорошо
помнили соседи. Они и подкармливали старуху,
когда-то унаследовавшую миллионное состояние. До
восьмидесятых годов она жила в Георгиевске, на
Ставропольщине, по улице Бойко, 109. Ее мазанка под
битой черепичной крышей, похожая на большую
собачью будку, стояла в окружении тоже частных,
добротных кирпичных домов. Именно сюда после
отбывания ссылки наведался писатель, именно
здесь он часами расспрашивал Ирину Щербак об
истории их семьи, и часть услышанного от нее
вошло в книгу “Август четырнадцатого”.
А теперь я прибегну к гамбургскому журналу
“Штерн” самого начала семидесятых: “Все
персонажи книги Солженицына, названные
подлинными именами, мертвы, за одним исключением.
Ее зовут Ирина, и автор представляет ее в самом
начале повествования как очаровательную,
молодую и очень богатую женщину, муж которой,
Роман, одетый по английской моде, помещик. Кто
такая Ирина? Репортер журнала Дитер Штейнер
установил, что зовут эту женщину Ирина Ивановна
Щербак, она приходится Солженицыну теткой,
невесткой его матери”.
А что же с матерью? Она умерла в 1944 году в
Георгиевске от туберкулеза. Я долго искал ее
могилу на старом, подготовленном под бульдозер
кладбище. Собственно, взору предстала свалка, а
не погост, умиротворяющий душу. Орать хочется:
“Да разве можно так осквернять прах предков
ваших!” На могилах в карты играют, блюют с
перепоя, а мы потом о какой-то нравственности...
Проиграли ее вот на таких делах, в пух проиграли.
Заглянул в местную церковь, может, по
регистрационным книгам могилку Таисии Захаровны
сыщу. Не получилось. Узнал, что и Щербак не
помогла бы мне. Ее соседка с начала тридцатых
годов — В.П. Кондакова как-то предложила:
“Давайте навестим Таисию”. А Ирина Ивановна в
ответ клятвенно: “Вот те крест, не помню места!”
В тот же день я поехал в Саблинское, что в
Александровском районе. Правда, село чаще зовут
более выразительно — Сабля. Именуют его иногда и
Солженицыным, нет, не в честь писателя. Александр
Исаевич здесь ни при чем. Люди помнят его деда —
Семена Ефимовича Солженицына. До революции это
был состоятельный хозяин. Имел около двух тысяч
десятин земли, держал овец, число которых
доходило тогда до двадцати тысяч. Понятно, в
таком хозяйстве требовались помощники. Нанимал
батраков. И тридцать, и сорок, и пятьдесят. Число
их менялось в зависимости от особенностей
каждого года. Но как бы там ни было, себя Семен
Ефимович от физического труда не освобождал. И
домочадцев к тому приучал; прежде всего сыновей
— Исая, Василия, Константина, Илью. А дочь Мария
была помощницей матери. В семье не знали распрей.
Односельчане любили Семена Ефимовича — и совет
добрый даст, и на подмогу никогда не поскупится.
Дорога на Салю вела к трагичному прошлому. Пахло
кострищем, конской мочой, навозом... Поеживалось
от утренней прохлады. Только из буераков, будто
там отлеживалось в росяной ночи солнце, тянуло
томно-сырой теплотой. Завораживал гул
пластавшегося по туману табуна. Княжие гривы
лошадей шелком играли на ветру. Солженицынский
табун, гонимый древним гиком, несся под чужие
сабли, к чужим, далеким, неведомым полям, где уже
вовсю шла сечь четырнадцатого.
Из семьи Солженицыных на мировую ушел старший из
сыновей — Исай. Ждали его долго. И вернулся
офицер в дом с женой. Где-то на фронтовой дороге
встретил землячку — из Кисловодска, и у них все
сладилось. Жить переехали в курортный город,
правда, у отца Исай Семенович бывал регулярно.
Любил походить с двухстволкой по степным
просторам. На охоте и приключилась с ним беда:
смертельно ранил сам себя... Сын Александр
родился в Кисловодске лишь через полгода после
этого трагического случая.
А вскоре на плечи Семена Ефимовича обрушилось
новое несчастье: умер сын Василий, оставив после
себя дочку Ксению. Вот таким нерадостным
получился для Солженицыных 1018 год. Таисия
Захаровна не часто, но появлялась в Сабле. И
первым долгом заглядывала к матери Ксении.
Объединяла их печаль по потерянным мужьям и
радость — малые дети.
Перелистываю свои десятилетней давности
записные книжки, где много сказано о близких
родственниках Александра Исаевича, которых
удалось разыскать мне. Читаю:
“— Я смутно, однако же помню Таисию Захаровну,
говорит Ксения Васильевна. — Красивая была
женщина. Первой любви осталась верна на всю
жизнь. А како Саша, не знаю. Встречаться с ним не
довелось.
Ей 72 года. Живет в Сабле безвыездно. Родное село
по всем статьям. Многое пришлось пережить этой
женщине. Рассказ был грустным:
Исполнилось всего полгода, когда осталась без
отца. А когда минуло пять лет, умерла мать. Кроме
меня — еще два брата. Спасибо дяде Константину:
не оставил нас, хотя у самого было пятеро сыновей
да дочь. Стали жить все вместе. Обходились своим
трудом. А тут подоспел двадцать девятый год.
Началось раскулачивание. Дядя Константин и
угодил под небо — выслали со всей семьей на Урал
Я, девчонка, с двумя братьями осталась в пустом
доме хозяйкой. Зарабатывала на пропитание тем,
что нянчила детей в других крестьянских домах.
Иногда посла телят...
Когда Ксении исполнилось одиннадцать лет, ее
приняли в колхоз. Словом, дали работу. А братья с
голодухи померли. Думала, что и самой скоро конец.
Не в поле же жить — дом отобрали. Но тут
восемнадцатилетней девушке сделал предложение
Тимофей Загорин. Стали вить собственное гнездо.
Да не успели — началась Великая Отечественная.
Муж с фронта не вернулся. Ксения Васильевна всю
себя отдавала колхозу. Хранит удостоверения
победителя социалистического соревнования. У
нее три таких книжечки.
— Жизнью я довольна, — решительно отвергает
любое сочувствие Ксения Васильевна, сохранившая
до сих пор твердость духа и крепость воли. — У
меня ладный дом. Есть огород, несколько фруктовых
деревьев. Кормлю себя сама.
В Саблинском живет и один из ее сыновей — Николай
Тимофеевич Загорин. Заведует четвертым
производственным участком колхоза имени Кирова.
Второй сын — Владимир Тимофеевич, живет в
Минеральных Водах, электрик. Недавно вышел из
рядов КПСС, членом которой был двадцать лет.
— Буду беспартийным. И этого звания не посрамлю,
— так объяснил матери.
Она восприняла неожиданную весть молча. Только
украдкой глянула на иконы в углу комнаты. Да на
комод, где у зеркала стоят две цветных
фотографии, недавно полученные из Америки. На
одной — Александр Исаевич, его жена — Наталия
Дмитриевна, сыновья — Ермолай, Игнат. На обороте
надпись: Вермонт, 2 сентября 1988 года. На другой —
писатель с супругой и младшим сыном — Степаном. И
с ним рядом красивая белая собака.
Ксения Васильевна приложила немало сил, чтобы
найти адрес двоюродного брата. Просила о помощи
Советский Красный Крест, но там развели руками.
Помог случай. Как-то к ней заглянул поэт
Александр Марков, который и переправил ее
весточку в США. И вскоре оттуда пришел ответ:
“Дорогая сестра Ксения! Очень рад был твоему
письму. Я так и догадывался, что ты за меня много
претерпела...”
Да, Ксения Васильевна не стала скрывать от
двоюродного брата, что одно время после февраля
1974 года, когда Указом Президиума Верховного
Совета СССР писатель А.И. Солженицын был лишен
гражданства по статье 64 Уголовного Кодекса
РСФСР, к ней в дом частенько наведывались
“искусствоведы в штатском”, носились на иконы,
выспрашивали: не имеет ли каких-нибудь вестей от
“родственничка”. Ничего полезного она им
сказать не могла, но такого рода визиты рождали
чувство внутреннего протеста. Только как его
выразить? И старая крестьянка-колхозница
отказалась от мужниной фамилии, вернула себе
девичью — Солнежицына. Да при выписке паспорта
ее “нечаянно” написали с ошибкой: Солжаницына.
Буковки попутали: вместо “е” поставили “а”.
Сына Владимира “законспирировали” еще
основательнее. У него в документах значится —
Салжаницын. Вот так они поддержали
родственника-изгоя. А ведь кто-то из родни
фамилии испугался. Некоторые даже сменили ее.
“Наверное, теперь жалеют”, — предлагает Ксения
Васильевна. И до сих пор со слезами на глазах
вспоминает долгожданное письмо брата: “Пошли
тебе Господь здоровья и долгой жизни. Надеюсь еще
повидать тебя, когда приеду. Но покуда еще мне
пути нету. Мы оба с женой тебя обнимаем. Привет
твоим сыновьям и снохам”.
А еще через несколько месяцев (1989 г.) пришло
письмо от жены писателя: “Дорогая Ксения
Васильевна! Получили ваше письмо от 1 апреля.
Большое спасибо за поздравление с Пасхой. К тому
времени, что это письмо до вас доберется, — уж
наверно настанет Троица, — поздравляем и мы вас.
Саня в хорошем здоровье, работает очень много. Он
должен закончить свою большую книгу, это еще
потребует времени. Но пока что и дорогу на родину
не спешат открывать. В конце концов, такое придет,
мы не сомневаемся. Сыновья наши уже выросли,
Ермолай и Игнат, кончили школу, учатся дальше.
Степан (младший) кончит школу следующей весной.
Мы ими, слова Богу, пока что довольны. Еще с нами
все годы живет моя мама, без нее бы мне совсем
туго пришлось: я ведь помогаю Саше в его работе и
тоже целыми днями работаю... Собрали и отправили
вам посылку”.
Благодаря этим письмам, она почувствовала живое,
родное сердце, страдающее, отзывчивое, живущее
большой надеждой — вернуться на родину. А то ведь
знала о нем не больше остальных. Я же бью поклон
Земле. Уже в который раз из роду-племени
крестьянского выходит писатель, гордостью
народной слывущий. Гласность, перестройка, нет,
не с эпохой Горбачева пришли к нам эти слова —
еще задолго до нее Солженицын говорил, что
советское общество больше не в состоянии жить
без этих двух понятий.
В отместку — лишение возможности жить на земле
отца, деда, прадеда... Боль, которая проникала и в
нас, исходила из всех Солженицыных, когда они
говорили о земле. Ее отняли у них, как любимое
дитя, как женщину, без которой не мыслишь жизни,
как кусок хлеба, самый вожделенный, ибо он
сотворен тобой — от колоска до горячего каравая.
Земля была всем существом их, не частью, не
крупицей помыслов и дум, а тем огромным понятием,
без чего все остальное — какое-то приложение к
человеческой жизни.
От того-то и сшибаем куски по свету, что
искоренили на земле хозяина. Что земля у нас
стала подобием общего котла, а люди хотят есть из
своих тарелок. И еще мало этого... Повырывали
хлеборобов да скотоводов, точно сулящие
благополучие долголетние растения, а что
получили? Рожон в зубы. Стала наша земля
напоминающей пустой, неухоженный дом, и,
посмотрите, сколько окон в России без
палисадников и кустов сирени, сколько скучающей
без яблоневого цвета земли...
Собрал ядреную антоновку хозяин, бросил ее в
заплечную торбу, перекрестился на отнятый у него
дом и двинулся под конвоем в далекую дорогу с
припрятанной надеждой, что и в том, незнакомом и
чудом для него месте вырастит пахучую антоновку,
выпестованную его дедами и прадедами.
И когда настала недолгая оттепель, их всех,
Солженицыных, отринутых от родного порога,
потянуло на Ставропольщину — к своей колыбели.
Приехала сюда и Вера Константиновна Щербакова,
двоюродная сестра писателя. Схоронила на Урале
отца с матерью, скиталась по чужим людям, полной
чашей испила то, что выпалдо на долю “кулацкого
отродья”. Ведь только так характеризовали всюду,
где доводилось появляться.
...Дождались. Выпили за юбиляра. Жаль, не все
дожили, кто встречи с ним чаял.
Владимир ЧЕРТКОВ.