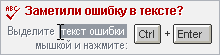Похороненная заживо
История, о которой я хочу рассказать, абсолютно реальна, случилась давно, и самой большой моей неправдой будет то, что имен некоторых персонажей я не знаю. 
...Ксюша Коломийцева была самой красивой девушкой на селе. Была такой умницей, хохотушкой с толстой русой косой, да еще с таким приданым, что местные богатенькие семьи с надеждой ждали, что именно на их отпрыска упадет пристальное внимание Ксюшиного отца, да и самой Ксюши. Без ее согласия на свадьбу вряд ли дело бы сладилось, уж больно строптивой была невеста. Да еще и всю семью: отца, мать и двух братьев — под каблучком новых сафьяновых ботиночек держала. А ботиночки, между прочим, папенька из самой Москвы привез, куда сам наместник царя пригласил его на празднование трехсотлетия династии! И отец, и мать, и братья в ней души не чаяли. Да и работники, почтительно называющие Кузьму Назарыча, крепкого мужика, благодетелем, тоже провожали Ксюшу добрыми глазами. Сначала как просто забавную, кругленькую малышку в красных сатинетовых сарафанчиках, а потом и как красавицу, полную достоинства, способную одним движением бровей поставить на место любого наглеца.
Наше село, в котором происходили описываемые события, было небольшим, но богатым. Имело свою мельницу, кузницу, школу церковно-приходскую, в которой получали немудреные крестьянские знания да умение читать-писать сельские ребятишки. Те хозяева, кто побогаче, помогали школе, чем могли, бывало, что и учителей из уезда выписывали, не довольствуясь своим словесником или батюшкой, уж больно часто прибегавшему к розгам. ''Ты это, Данилыч!.. Девчонок-то не секи! Им твои знания не сильно нужны. А уж не дай бог, мою Ксеньку тр-р-ронешь!..''. ''Что ты, что ты, Кузьма Назарыч! Да твоя отроковица чисто ангел небесный, как можно-то-с!'', испуганно лопотал отец Серафим, упрямо называемый односельчанами Данилычем. Наверное, не сильно набожен и сам был, коли не отвел молитвами от своей любимицы страшной беды.
Пьяниц на селе почитай что и не было. Так, пара совсем уж захудалых мужиков, чьи жены вечно побирались по соседкам то за солью, то за ''гасом'' - так здесь называли керосин. Дети их вечно были голодны, грязны... Подрастая, напоминали волчат, оскаливающих зубы на каждый камень. Уж и стыдили их отцов, и грозили матерям, что, мол, в приют отдадим уездный...
Один такой волчонок, Игнашка, вдруг стал примечать Ксюшу. Несмотря на угрозы братьев девушки, проходу не давал ни на улице, ни в церкви, куда случалась ей в одиночку на воскресную службу ходить. Папаша, Кузьма, не шибко в бога верил, считал, что за труды праведные он его и так наградит, а мать старалась с подружками отдельной стайкой стать. А когда еще встретиться бедным бабам, замотанным домашней работой, да лясы поточить?
Весенним, радостным воскресеньем Ксюша возвращалась домой. А что грустить? Папанька обещался на ярмарку свозить, накупить всяких девичьих припасов да к приданому что-нибудь: невеста в доме! От этой радостной мысли сердечко Ксюши забилось, кровь прилила к щекам так, что даже мочки ушей загорелись. Подобрав юбки, задыхаясь от радости, она бегом припустила домой. Уже были видны отцовские амбары, уже работники, сидящие на лавке у двора, приветственно махали ей рукой, когда неведомая сила толкнула Ксюшу наземь.
Проваливаясь в беспамятство, видела она злобное лицо Игнашки , все в дорожках от пота: видно, долго гнался за ней да примеривался к добыче.
...Когда обезумевший Кузьма и голосящая Матрена кинулись к дочке, Игнашку уже добивали кольями подбежавшие работники. Тот пьяно выкрикивал непотребные слова и прикрывал голову разбитыми руками. На помощь ему спешили отец Серафим и сельский староста. Насилу отняли, хоть и искалеченного, да живого. Ксюша же лежала помертвелая, с заострившимся носом и посиневшими ладошками. Один глаз был чуток приоткрыт, и видно было, как стремительно уходит из него жизнь. Зрачок суживался, уголки рта опускались... ''Дай бляху! Бляху дай!!!'' - кричал обезумевший отец невесть откуда взявшемуся пареньку в форме реального училища. Потом долго прикладывал к губам девушки блестящий металл, улавливая дыхание. Но нет... Да и ''фершал'', сельский врач, угрюмо покачивал головой, держа тонкое девичье запястье и считая удары маленькой синей жилки: ''Оставь ее, Кузьма! Не донесем до больницы...Головой об камень... Кончается Ксюша!..''
Заголосили бабы, упала без памяти Матрена, братья Ксюшины рванулись было за подводой, увозящей в уездную тюрьму Игнашку, да что уж...
...Гроб для дочки Кузьма Назарыч сам ладил, не подпуская никого к верстаку, сам вытесывал, прилаживал дощечки, сам шлифовал уголки. ''Разве такой я тебе, дочка, дом готовил?..'' - плакал враз постаревший отец.
Хоронили Ксюшу через день. Смерть не оставила на ее лице никаких отметин, разве что губы, капризно враз изогнувшиеся, побелели... ''Дайте же еще хоть раз посмотреть!'', — рвались родители к гробу, плавно, на рушниках, уходившему в могилу. И этим днем, и этим вечером отец и мать не уходили от скорбного места. Матрена и не могла бы идти: лежала без памяти на холмике. Отец, шепча давно забытые молитвы, обнимал желтый крест. И наутро картина мало изменилась, Матрену соседки увели: поминки ''на завтрак'' надо готовить... Без матери нельзя.
Кузьма уж все слезы выплакал, сидел, просто прислонившись к кресту... Что уж он рассказывал своей дочке, знает только жаворонок, проснувшийся и оглашавший окрестности тихим ''тюрлюканьем''...
Вдруг Кузьма даже не услышал, почувствовал тихий толчок! Откуда он шел, было непонятно. Но вот он повторился. Кузьма, откатившись от могилы, истово перекрестился. Потом на четвереньках, трясясь, как в лихорадке, подполз к холмику. Откуда-то из недр земли раздавались приглушенные стуки...
''Изыди, изыди...'' - шептал Кузьма, прислушиваясь к стуку.
И вдруг бегом кинулся к процессии, направляющейся с первым ''неземным'' завтраком для усопшей: ''Лопату!!! Скорее лопату!'' Бабы, решив, что он рехнулся от горя, попытались схватить его за рубаху. Да куда там, только куски ситца в руках остались! Через минуту Кузьма уже несся обратно, держа на плечах пару лопат. ''Бери!'' - кинул одну батюшке. И начал быстро-быстро раскидывать глину. Поп молча начал ему помогать. Сначала работали молча, под потрясенными взглядами прибывших на поминки. По мере приближения к крышке гроба Кузьма начал страшно, по-черному материться. Батюшка — распевать в голос: ''Со святыми упокой!''... Так и рыли землю, таким вот хором.
Гроб вынимали на тех же рушниках: нащупали под домовиной концы. Собравшийся народ от ужаса онемел. Где это видано, чтобы поп гробокопателем нанялся? Да и Кузьма, похоже, того... И неуемное любопытство: что же ТАМ?
Батюшка опомнился первый: ''Кузьма Назарыч, не надо... Что ж мы делаем?''. Попытался прикрыть рукой гвозди-сотки, соединившие половинки домовины. ''Убери руку ! Отр-р-рублю!..'' - задыхаясь, прохрипел Кузьма и со всего размаху лопатой ударил в то место, где мгновение назад была ладонь священника. Гвоздь вылетел. Крышку сорвал легко...
...Ксюша лежала почти на боку. Скрюченные пальцы судорожно сжали нарядный тюль и покров. Венчик сбился с головы, и смятый, мокрый, лежал под щекой. Волосы, перед похоронами аккуратно причесанные бабками, торчали седыми космами... Кузьма забил ногами по земле, захрипел. К нему уже бежал ''фершал'' и реалист, оказавшийся соседским пареньком Гришей. Люди вокруг потрясенно молчали, бабы попросту валялись в обмороке или стояли на коленях, мелко крестясь.
Реалист поднес начищенную бляху к губам покойницы и молча стал вываливать ее из гроба на землю. Потом над распростертым телом стал колдовать доктор, намазывая ваткой с нашатырем под носом у бедняжки. Вскорости ее грудь едва заметно поднялась, и вдруг Ксюша закашлялась, замотала головой, разбивая виски о стенку гроба и комья сухой земли.
Неделю в хату Коломийцевых никто, кроме доктора, не заходил. Реалист Гриша, приехавший на каникулы, так и спал под окнами Ксюшиной спаленки. Изредка за какой-нибудь надобностью выходили родные бедняжки, народ к ним кидался, но они угрюмо отмалчивались. Узнали только от старосты, что Игнашку отправили на каторгу. А вскоре и хата Игнашкиных родителей сгорела, должно, от головешки, выпавшей из печи. А может... Да разное народ потом говорил... Во всяком случае их больше никто и никогда не видел.
Ксюша пришла в себя через неделю. И стала другой. Прежде русыеволосы, мягкие, как шелк, стали седыми. Румянец, прежде покрывавший щечки, теперь увял. Стала она говорить хрипло, страшно: сорвала голос, когда звала на помощь. Голос этот я помню до сих пор.
И говорить стала Ксения странные речи: то ей чудились красные люди, то белые люди, то что скоро с церкви колокол упадет и тогда всем будет голод. Будет много голодов, говорила она.
Врачи в уезде уверяли растерянного отца, что дочка его сошла с ума и вряд ли поправится. Надо бы ее в специальную больницу определить. Но упрямый отец ни в какую: буду сам за ней ходить, я виноват, что живую схоронил, мне и крест нести.
Однажды в село зашел странник, толкнулся в двор Коломийцевых. Тихая седенькая женщина спросила: ''На войну или с войны, дедушка?''. ''Пророчица!'' - упал на колени странник.
Война будет! Весть разлетелась по селу бешеными осами. Завыли во дворах матери и жены... А через две недели уже уходили мужики на фронты первой мировой. И мой дед, молодой парень тогда, тоже...
Ксюша так и стала сельской блаженной. К ее слову прислушивались, как к последней истине. Она и будущую революцию учуяла как-то, и то, что одни мужики перешли на сторону красных, другие на сторону белых. Что это, народ не понимал. Ясно только, что война гражданская: брат на брата пошел! И голод состоялся: в двадцать первом моя бабушка, ровесница пророчицы, схоронила первенца — Павлика.
В тридцать девятом Ксюша, которую все давно звали Коломытчихой, сказала сельскому парторгу Якову Шнейдеру, что его братья будут гореть головешками. Яков, будучи нетрусливым, тайком пробрался в церковь, где давно уж не служилось, и перед оставшимся на стене нарисованным образом, наполовину заваленным хомутами, поставил свечу и долго пел странные песни на незнакомом языке. Один поп Данилыч, давно уж расстрига по воле новых властей, не оставивший церквушки по своей воле, ставший там сторожем при хомутах и досках, понял, что это голошение — плач древнего народа , вдруг заклокотавший в Яшкиной не единожды стреляной груди.
Семья Коломийцевых не сгинула в лихие голодные года. После голода, кроме родителей, все остались живы: видать, заботливый Кузьма перед смертью указал на место, где золотишко упрятано, кому-то из сыновей. Потом это золотишко ушло на танковую колонну, когда над страной грохотала Великая Отечественная. И тут Коломытчиха все верно предсказывала: кто вернется, кто нет. Ее и боялись, и шли к ней солдатки с последней надеждой, прижимая к груди осьмушки хлеба: больше ничего за ворожбу Коломытчиха не брала. А не было хлеба, так и ничего не надо, милушка... Каркающим голосом она говорила: жди, скоро придет, на трех ногах. И точно, шел домой воин на костылях. Кричали на дворе от радости. ''Жди бумагу белую!'' - и кричали во дворе от горя.
Все Коломийцевы пришли с войны, хоть и изранены вдоль и поперек, но живы. Пришли и братья, и сынок ее, Костик, неизвестно от кого прижитый еще в середине двадцатых. Кстати, с рождением сына Ксюша вновь стала разумной, забываясь только иногда и ненадолго. Костика в семье боготворили за это.
Жизнь покатилась своим чередом: все залечивали раны. И люди, и земля. Коломытчиха вместе со всеми и на коровенках пахала, и колоски собирала, и на стройке работала. А еще вдруг начала людей лечить ''от испуга''.
Моя мама рассказывала, что помнит ее совсем старой, когда ей Коломытчиха ''выливала'' испуг: лила свечу в наговоренную воду. Так и я помню ее совсем старой: мне испуг выливала она уже в конце шестидесятых. Помню вкуснейший борщ, которым потчевала нас бабушка Ксюша и рассказывала моей бабушке, что меня собака напугала.
Умерла она совсем недавно, лет семь назад... Никто не знал, сколько ей лет: то ли сто, то ли около того... Богатства не нажила, люди ее любили, несмотря на устрашающую внешность.
Наверное, все было неспроста, и вся эта жизнь и была богатством Коломытчихи, Ксюши, любимой дочки счастливого отца, похороненной когда-то заживо?
Наталья Буняева
Источник: Вечерний Ставрополь "> Вечерний Ставрополь