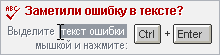Эволюция российских тюрем: От пресс-хат к прозрачности
Член Московской Хельсинской группы, почетный председатель ОНК Московской области Валерий Васильевич Борщев в интервью Pravda.Ru рассказал о непростой ситуации в тюрьмах и о том, как с этим справляются волонтеры. По его словам, общественный контроль необходим и другим закрытым учреждениям, в частности, психиатрическим заведениям и интернатам.

— Расскажите, пожалуйста, про Общественную наблюдательную комиссию.
— ОНК — это действительно очень важное явление в жизни нашего общества, потому что такая система общественного контроля над тюрьмами, полицией существует только в Британии, отчасти во Франции и у нас. В бытность депутатом Госдумы я познакомился с английским опытом Совета визитеров и решил подготовить такой закон.
В 1999 году наша рабочая группа представила законопроект, который был принят тогда в Думе конституционным большинством. Все фракции поддержали, 316 голосов "за". Но правительство было против, и через Совет Федерации закон заблокировали. Тогда создали группу "Согласие": от Госдумы ее я возглавлял, от Совета Федерации — Собянин. Так мы пришли к консенсусу, но закон пришлось долго пробивать.
Мне Памфилова дважды устраивала возможность поговорить с Путиным по поводу закона, Лукин ходил к Путину, Путин тогда дал резолюцию на его письме, что надо поддержать. Наконец в 2008 году закон был принят, во всех регионах были созданы Общественно-наблюдательные комиссии, которые без специального разрешения могут пройти в любую тюрьму, в любой отдел полиции, изолятор временного содержания, — то есть во все места принудительного содержания, — и проверить, соблюдаются ли там права человека. Нет ли там нарушений, нет ли там произвола, насилия и прочих "прелестей", которыми, к сожалению, страдают именно эти места. Опыт уже есть. Я три года был в Московской комиссии. К сожалению, срок ограничен. В одной комиссии можно быть только три созыва.
— А вы сами отбывали наказание?
— Я занимаюсь тюрьмами и лагерями давно. В правозащитном движении я с 1975 года, как только познакомился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. В те годы мои друзья сидели по лагерям, а я был всего лишь лишен возможности писать заметки. Чем только не занимался: был плотником, маляром-высотником. В моей трудовой книжке записано: завотделом редколлегии, пожарный в театре на Таганке, куда меня устроили Высоцкий и Золотухин, поскольку тогда я не мог устроиться работать в газете. Я был в религиозном диссидентском движении с отцом Глебом Якуниным. У нас была подпольная типография по изданию религиозной литературы. Мы делали Евангелие, молитвословы и, конечно, все мы ждали своего срока. Мой срок пришел в 1985 году, после того как я съездил в ссылку к отцу Глебу в Якутию. Это было, видимо, последней каплей.
На допросе мне вынесли предупреждение по 70-й статье. После предупреждения человек должен или раскаяться, или сесть в лагерь. Я готов был к последнему, но тут умер Черненко и пришел Горбачев. Я вернулся в журнал "Знание — сила", когда началась Перестройка, но газетчиком я уже не мог работать. С 1990 года стал депутатом.
— Вы автор закона "Об общественном контроле в местах принудительного содержания". У вас были соавторы?
— Была довольно серьезная группа. Идея была моя, поскольку я был единственный, кто с этим познакомился в Англии. Но я собрал группу правозащитников. Там был мой друг Валерий Абрамкин — блестящий специалист по вопросам пенитенциарной системы. Он сидел в лагере по 190-й статье. Были Андрей Бабушкин, Боря Альтшулер, знаменитый судья Сергей Анатольевич Паршин и другие юристы.
— Российский закон кардинально отличается от английского?
— Отличается, поскольку в Англии они этим занимаются уже не первое столетие. У них в каждой тюрьме есть группа — Совет визитеров. В каждой тюрьме комната, в ней 7-10 человек сидит, у них на бедре ключи, они ходят по тюрьме, общаются свободно со всеми зеками, те им жалуются и они успешно принимают меры. У нас, в общем-то, на регион минимум 5, максимум 40 человек. Этого, конечно, мало. Тюрьмы все в Москве можно обойти. Да и то, как обойти, — камеры все все равно не обойдешь, а вот все отделы полиции мы практически охватить не можем. Только, когда бывают сообщения о каком-то насилии, произволе, тогда мы срочно выезжаем.
— А в регионах дело еще хуже обстоит?
— Не везде одинаково. В Питере и в Челябинске было очень хорошо. Сейчас, при формировании нового состава, самых сильных правозащитников в члены ОНК, к сожалению, не включили. На Алтае комиссия очень хорошая, сильная, в Перми, в Свердловской области. Дело новое, тут должен быть профессионализм. Это же не просто прийти, как в открытое учреждение. Там столько тайн! Пока человек изучит эту систему. В общем-то обмануть очень легко, как и при всякой проверке. Поэтому, конечно, должен быть опыт. Сейчас уже набралось какое-то количество людей, которые имеют опыт.
— Как вы их рекрутируете?
— Идут исключительно добровольцы. В законе у меня говорится, что должен быть опыт в правозащитной деятельности. Неважно в какой области. И организация, которая тоже занимается защитой прав человека и которая действует не менее пяти лет, рекомендует этих людей.
— Люди, которые имеют судимость, имеют право заниматься в ОНК?
— Если судимость погашена, то имеют. Когда готовили закон, был большой спор можно ли бывшим сидельцам и бывшим сотрудника пенитенциарной системы. Аргументы были серьезные. Иногда бывшие сотрудники пенитенциарной системы грудью бросаются на защиту своей "альма-матер", хотя уже в отставке. Но бывает иначе, например, генерал Базунов — уполномоченный по правам человека у Лукина и у Памфиловой, прекрасный специалист. Мы с ним сотрудничали. Некоторые бывшие сотрудники, к сожалению, не пошли путем генерала Базунова. Очень жаль.
— Как относятся заключенные к вашей деятельности? Отзывы доходят?
— Откуда мы узнаем, что в колонии или в СИЗО есть мобильный? (Смеется). Потому что звонят, говорят, что вот там то-то и то-то происходит, передают через родственников, через адвокатов. Действительно люди чувствуют защиту. Тем более, в колонии у нас есть возможность говорить один на один, наедине. В следственном изоляторе, к сожалению, нет. Там присутствует сотрудник. Иногда его присутствие — это нормально, он записывает на видеорегистратор, не нарушили ли мы закон, потому что по закону мы не имеем права заниматься самим делом, влезать в уголовный процесс.
— Вы рассматриваете нарушения со стороны руководства пенитенциарных заведений или вообще любые конфликты, может быть, между самими заключенными?
— Есть такое явление, как "пресс-хаты". Мы с Валерой Абрамкиным в 1990-е годы много сил положили в борьбе с ними. Я даже говорил, что вроде бы в Бутырке нет "пресс-хат". Раньше она славилась ими. А потом мне позвонил Саша Музыкантский. Он тогда был уполномоченный в РТ, который получил такую информацию. Действительно, мы нашли там "пресс-хату". Там человек порезал себе вены, ему угрожали. В Бутырке довольно толковый начальник СИЗО Сергей Телятников. В присутствии представителя прокуратуры мы с ним этот факт разбирали, эту "пресс-хату" ликвидировали. Бывают и другие случаи. Если система закрыта — там царит произвол. Должна быть прозрачность, открытость, чтобы представители общества могли туда приходить.
— У вас ограничений нет? Вы занимаетесь заключенными по любыми делам?
— Конечно, по любым. Нас дела не интересуют. Когда я говорил о человеке в Бутырке, который порезал себе вены, — это мой, так сказать, политический враг. Это человек, который организовывал убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Ну, какие у меня к нему могут быть симпатии? Но по отношению к нему был нарушен закон. Ему дали пожизненный срок.
— Наши исправительные заведения вы давно наблюдаете…
— С 1990 года постоянно езжу.
— Они в какую сторону меняются?
— В 1990-е годы "пресс-хат" было великое множество. Если следователю было удобно, он получал то, что ему нужно. Теперь "пресс-хаты" стали редкостью. Массовые факты избиений в 1990-е годы встречались очень часто. Особенно в полиции. Помню, когда начальником ГУВД был Колокольцев, одному демонстранту сломали руку. Колокольцев тогда принял действенные меры. Он помогал нам, будучи начальником ГУВД. Увы, не везде так, особенно в регионах. Например, Краснодарский край. Мы там проводили специальные заседания Совета по правам человека в присутствии губернатора. Очевидные вещи рассказывали, доказывали. По-разному в разных регионах. Но в целом движение есть, хотя и очень тяжело идет.
У нас все-таки добились, что теперь норма на человека должна быть не менее четырех метров. В Европе семь метров. Очень важно, чтобы в ОНК приходили действительно люди с правозащитным настроем. Если я прихожу в тюрьму, в СИЗО, то это не меньше 4-5 часов. Это вещь не оплачиваемая, это должно быть за счет твоего свободного времени.
— Вы удовлетворены тем, как работает закон, или есть вопросы?
— Есть, конечно. Даже не столько закон, а воспрепятствование реализации закона, как это было в Свердловской области и Коми, где не пускают в колонии. Это нарушение закона. Правозащитники и члены ОНК подают в суд. Выигрывают суд, те признаются, что были не правы, по логике вещей после этого им должны дать по шапке, но увы, не дают. Поэтому другие повторяют тоже самое. Недавно собирались у Федотова, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В Госдуме готовятся очень опасные поправки: если сотрудники СИЗО решат, что разговор идет не о правах человека, то они могут его прервать. А прерывают они и сейчас. Например, жалуется человек, что ему дали подушку, на которой спать невозможно. Сотрудник перебивает — это разговор, который попадает под статью о переписке. Во-первых, это не переписка, а подача жалобы. Но дело даже не в этом. Членам ОНК можно говорить все. Если в законе будет записано (в проекте уже есть такая поправка), что в СИЗО могут прерывать разговор, если по их представлениям это не касается прав человека, то это серьезно меняет концепцию закона. Получается, что не мы — члены ОНК — контролируем сотрудников, а они нас контролируют. Мы будем в Госдуме отстаивать свою позицию. Вокруг закона идут постоянные баталии. В принципе, сама по себе система контроля работает. Потому что еще раз повторяю — всякая закрытая система страдает огромнейшими бедами.
Общественный контроль нужен над психиатрическими заведениями. Что творится в интернатах? Об этом мало кто знает. Это закрытые учреждения, и туда не пускают представителей ОНК. Когда мы готовили закон, хотели подготовить закон об общественном контроле над детскими учреждениями, потому что было очень много жалоб.
— Вы имеете в виду колонии для несовершеннолетних или интернаты?
— Обычные детские интернаты. Мы ходим в колонии, а вот в детские интернаты — нет. Там творятся страшные вещи: суицид и изнасилования. Дума приняла закон об общественном контроле, но на его основе надо дальше разрабатывать.
— Как живут заключенные в других странах?
— По-разному. В Англии, в Голландии и в Германии — нормальные тюрьмы. В США мне тюрьмы не понравились. Прохожу по коридору, там решетчатые двери. Человек сидит на унитазе — на обозрении всех проходящих. Америка — особая статья. Мне рассказывали, что у них разные тюрьмы. Единственное место, где я слышал крики, — это частная тюрьма. Я противник частных тюрем, потому что они будут экономить деньги ради выгоды на той же самой службе, которая будет стремиться к защите прав человека, да и на квалификации сотрудников. Они будут брать людей на менее оплачиваемую должность. Это скажется на заключенных. Посмотрев на английские частные тюрьмы, понял, что вот этот опыт нам перенимать не надо.
— Валерий Алексеевич, если преступники нарушают закон, а потом требуют, чтобы к ним относились по закону, разве это правильно?
— Зачем же государству уподобляться нарушителю закона? Если и государство будет нарушать закон, это будет страшная по своим последствиям волна. Я же сказал, что я иду защищать людей независимо от того, симпатичен мне человек или нет.
— Каково ваше отношение к мораторию на смертную казнь?
— Будучи депутатом, я в Госдуме вносил законопроект о моратории на исполнение смертной казни. Во всем мире минимальные ошибки (ни одна страна без ошибок не обходится) составляют минимум 5 процентов. Академик Кудрявцев подсчитал, что при всей закрытости нашей статистики у нас в Советском Союзе было 15 процентов ошибок. Даже при признании происходят ошибки. Ошибки — это массовое явление. Я очень часто бывал в зонах, где сидят пожизненники: в Мордовии, на знаменитом острове Огненном. Вы знаете, это ничуть не легче.
— В Беслане выжил один из террористов, его не застрелили при штурме школы…
— То, что он должен быть наказан, несомненно. Но пожизненное заключение — это серьезное наказание. Очень серьезное.
— Люди боятся, что не казненные преступники выйдут на свободу. Насильники, например.
— Пока ни один не вышел.
— На Украине после переворота…
— На Украине может быть. У нас таких нет. Многие и не собираются выходить, им некуда выходить, потому что родственники умерли или от них отказались. Пожизненное наказание — это очень серьезное наказание. Через определенное время они добровольно умирают. Отказываются от еды. Многие из них даже считают, что они с большим удовольствием приняли бы смерть, чем пожизненное заключение. Это ничуть не мягкая мера. 25 лет прошло — пока ни один не вышел. Подавал один заявление. Кстати, я занимался его делом и уверен, что он не виноват. Никаких прямых доказательств его вины не было. Все — только косвенные. Сам он из правоохранительной системы. Несмотря на судебную ошибку, его так и не освободили.
Беседовал и подготовил к публикации Игорь Буккер