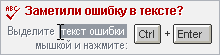Возвращение
21 февраля 1852
года не стало Гоголя, которого мы все еще
по-настоящему не знаем, боимся до конца узнать и
тем более по-настоящему чтить. Как он когда-то и
предсказал.
О последних месяцах жизни Гоголя, о его завещании
и судьбе завещания рассказывает Нина МОЛЕВА,
профессор, доктор исторических наук, кандидат
искусствоведения, член Союза писателей и Союза
художников СССР и РФ.
На этот раз
решение было окончательным: он возвращался в
Россию, чтобы поселиться навсегда в Москве.
Именно в Москве, которую Гоголь успел полюбить и
оценить за простоту общения людей, проявление
лучших черт русского характера и – за стихию
“благоуханного” русского языка, такую желанную
и так незаметно начинавшую от него ускользать.
Многолюдные русские колонии во всех европейских
городах и странах не могли ее ни сохранять, ни
даже просто поддерживать. Между тем, в его
представлении, только язык “вызовет нам нашу
Россию –– нашу русскую Россию, не ту, которую
показывают нам грубо какие-нибудь квасные
патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за
моря очужеземившиеся русские, но ту, которую
извлечет она из нас же и покажет таким образом,
что все до единого, каких бы ни были они различных
мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в
один голос: “Это наша Россия; нам в ней приютно и
тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под
своей родной крышей, а не чужбине”.
Двенадцать лет скитаний по Европе...Сразу после
провала петербургской премьеры “Ревизора”. С
обидой в душе. С глубочайшим разочарованием от
непонимания современников. С уверенностью, что в
“прекрасном далеке” будет свободней работаться
и яснее просматриваться жизнь России. Полнота и
объективность оценок должны прийти сами собой. И
вообще – какое значение для участия в развитии
русской культуры может иметь то, что русский
писатель станет жить и работать в географической
удаленности от нее!
Да, задуманные, начатые, “созревшие” в России
“Мертвые души” сравнительно быстро были
завершены и изданы. В той же России. И усилиями
друзей. Но дальнейшая работа, по признанию
Гоголя, не стала ладиться. Дело было не в смене
настроений, не в благоприятном или
неблагоприятном окружении, не во внутренних
переменах художника. Менялась Россия и менялась
без его непосредственного участия, а это Гоголь
ощущал с исключительной остротой.
Спустя всего три года после выхода “Мертвых
душ” он напишет в одном из писем: “В десять лет
внутри России столько совершается событий,
сколько в другом государстве не совершается в
полвека...В последние два-три года даже начали
выходить из нее и люди совершенно другие, не
схожие ни в чем с теми, которых вы еще знали не так
давно. Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя,
нужно непременно по ней проездиться самому.
Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще
никогда не бывало в России такого
необыкновенного разнообразия и несходства в
мнениях и верованиях всех людей, никогда еще
различие образований и воспитания не оттолкнуло
так друг от друга всех и не произвело такого
разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух
сплетней, пустых новозаносных выводов, глупейших
слухов, односторонних и ничтожных заключений, –
все это сбило и спутало до того у каждого его
мнения о России, что решительно нельзя верить
никому”.
Он сам подтверждает собственные выводы, выпустив
в 1845 году “Избранные места из переписки с
друзьями”. Даже давние друзья и единомышленники
не находили для книги добрых слов.
Общечеловеческие рассуждения в ней казались
далекими от реальных проблем России. Между тем
Гоголь не скрывал, что хотел “хотя
сколько-нибудь заплатить за свое долгое
молчание”, объяснить сложность своего положения
вдали от России. А уж затем заговорить о том, что
“раскроет передо мною побольше Русь, освежит,
оживит меня и заставит меня взяться за перо”.
Теперь надо было справиться с новым ударом,
прийти в себя и –– тем более – возвращаться в
Россию. И это при том, что материальное положение
Гоголя было катастрофическим. Средства к
существованию ему давало только его перо, а
взяться за него не представлялось возможным.
Книга еще не складывалась, об ее окончании не
приходилось и думать, на мелкие журналистские
заработки даже перед лицом прямого голода Гоголь
не соглашался.
Более того. Не считая себя вправе торопиться с
книгой, Гоголь приходит к мысли, что его
существование не приносит пользы России.
“Трудней всего в свете тому, –– замечает он, ––
кто не прикрепил себя к месту, не определил себе,
в чем его должность. Как в молодости, он приходит
к мысли о чиновничьей службе, потому что видит
спасение России в “честном чиновнике”.
“Я уже готов был также взять всякую должность,
хотя, соображаясь со своими способностями,
старался выбрать такую, которая продолжала бы
практически знакомить с русским человеком,
чтобы, если возвратится мне способность писать,
набрались у меня материалы. Одной из главных
причин моего путешествия к Святым Местам было
желание... испросить деятельности и
напутственного освежения на дело, для которого я
себя воспитывал и к которому приготовлял себя.
Тут я не нахожу ничего странного”.
Необходимость считаться с состоятельными
попутчиками надолго задерживает Гоголя в пути.
Зато какое нетерпение проявляет он, оказавшись
наконец в Москве! Не найдя разъехавшихся по дачам
друзей, он мчится в Петербург, наспех встречается
с тамошними знакомыми и снова возвращается в
Москву. Жажда встреч, впечатлений, дружеских
бесед заставляет забыть о простых бытовых
нуждах.
Недолгое пребывание в предоставленном ему доме
С.Н. Шевырева сменяется оказавшейся, к сожалению,
слишком недолгой жизнью в доме М.П. Погодина,
вблизи Новодевичьего монастыря. Давние нелады с
хозяином, забытые в момент первой встречи, снова
начинают давать о себе знать. Погодин не делает
попытки задержать у себя Гоголя, напротив – он
придумывает ремонт в доме, который становится
явным предлогом для переезда Гоголя.
Из числа знакомых, предложивших ему свое
гостеприимство, Гоголь отдает предпочтение чете
графов Толстых. Последнее время они часто
встречались за границей. В “Избранные места из
переписки” вошел ряд писем, адресованных обоим
супругам. Наконец Толстые, не имея в Москве
собственного дома, готовы подыскивать себе
квартиру в расчете на совместную жизнь с Гоголем.
Но при всех несомненных удобствах подобного
решения верным было и то, что Толстые, как и их
окружение, не интересовались Гоголем-писателем.
Не то что не любили – попросту не читали его
произведений. Оставляя дом Погодина, Гоголь
лишался дружеской среды, что еще важнее –
профессионального взаимопонимания. И напрасно
было уверять себя что это не имело никакого
значения.
Да, он имел отдельную половину, прямо рядом с
парадной дверью, мог вести любой образ жизни,
принимать у себя своих гостей, не ставя об этом в
известность хозяев. Но он должен был реже или
чаще подниматься на графскую половину к столу,
читать вслух хозяйке – хотя бы из любезности,
слушать ее игру на фортепиано, ублажать
подарками и деньгами пренебрежительно
относившихся к “нахлебнику” слуг. А ведь Гоголь
еще к тому же не умеет кривить душой, не умеет
сдерживаться в своих оценках. Это графу А.Н.
Толстому он напишет: “Вы еще не любите Россию: вы
умеете печалиться да раздражаться слухами обо
всем дурном, что в ней ни делается; в вас это
производит одну только черствую досаду да
уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до
любви, – это разве только одно отдаленное
слишком еще ее предвестие. Нет, если вы
действительно полюбите Россию, у вас пропадет
тогда сама собою та близорукая мысль, которая
зародилась теперь у многих честных людей, то есть
будто в теперешнее время они уже ничего не могут
сделать для России и будто они ей уже не нужны
совсем...”.
Нет сомнения, в свое время руководителей
официальной идеологии как нельзя больше устроил
отъезд из России автора “Ревизора”. Но спустя
столько времени его возвращение, к тому же без
новых произведений, подобных “Мертвым душам”,
не представлялось опасным. Этому способствовали
и толки о возросшей религиозности писателя, его
интересе к проблемам философии христианства,
хотя существовал он в том общем стремлении к
установлению высоких нравственных критериев,
которые Гоголь всегда считал особенностью
русской ментальности – нравственность
подлинная и нравственность мнимая – граница, о
которой все время думает писатель и которая не
теряет своего значения и для последующих
поколений.
“Сказать: не крадьте, не роскошничайте, не берите
взяток, молитесь и давайте милостыню неимущим –
теперь ничто и ничего не сделает. Кроме того,
всякий скажет: “Да ведь это уже известно” ––
еще оправдается перед самим собой и найдет себя
чуть не святым. Он скажет: красть я не краду;
положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь
вещь, я ее не трону...Живу я, конечно, роскошно, но у
меня нет ни детей, ни родственников, мне не для
кого копить, роскошью я доставляю зато пользу,
хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам,
фабрикантам; взятку я беру только с богатого,
который сам просит об этом...ни от одного
пожертвования на какое-нибудь благотворительное
заведение еще не отказывался”.
И вместе с тем неожиданно для своих политических
опекунов Гоголь выступает с осуждением
славянофилов, называет их кичливыми хвастунами,
чья кичливость возбуждает против них готовых
отступиться от многих свойственных им
крайностей западников. С еще большей
убежденностью Гоголь выступает против фанатизма
в любой области человеческой жизни. В одном из
писем он пишет: “Односторонние люди и при том
фанатики – язва для общества: беда той земле и
государству, где в руках таких людей очутится
какая-либо власть. У них нет никакого смирения
христианского и сомнения в себе; они уверены, что
весь свет врет и они одни говорят только правду.
...Не будьте похожи на тех святошей, которые
желали бы разом уничтожить все, что ни есть в
свете, видя во всем одно бесовское. Их удел –
впадать в самые грубые ошибки”.
Это был новый Гоголь, во многом незнакомый старым
друзьям и по-прежнему неудобный для официальных
идеологов. Между тем его влияние на умы той же
молодежи нисколько не ослабело – не случайно
толпы ее сходились на Никитском бульваре в часы
без малого каждодневных прогулок писателя.
Исподволь назревавший конфликт разразился сразу
после кончины Гоголя. Граф Толстой и былые друзья
– славянофилы после спора о порядке похорон с
одинаковой охотой отступились от них,
предоставив тело Московскому университету. На
руках его вынесли из последней квартиры писателя
профессора, на руках донесли до университетской
Татьянинской церкви студенты. Двое суток не было
ни прохода, ни проезда на Большой Никитской от
толп, желавших проститься с Гоголем. И снова на
руках, отказавшись от катафалка, москвичи несли
гроб до кладбища Данилова монастыря. Траурная
процессия на улицах растянулась едва ли не на
целую версту. Это были не отступившиеся друзья –
это были просто читатели.
Завещание Гоголя было опубликовано за семь лет
до его кончины. Писатель завещал предать его тело
земле, “не разбирая места, где лежать ему; ничего
не связывать с оставшимся прахом. Стыдно тому,
кто привлекается вниманием к гниющей персти,
которая уже не моя: он поклонится червям, ее
грызущим”.
Так случилось, что в 1931 году последовало
распоряжение перенести прах писателя в
Новодевичий монастырь. По утверждению члена
правительственной комиссии профессора А.А.
Федорова-Давыдова, надгробие было сдвинуто с
первоначального места тесно окружившими его
могилами. Из-под него удалось изъять только
несколько костей и бархатную туфлю, перенесенные
в новую могилу. Желание писателя неожиданным
образом оказалось выполненным.
Вторым условием завещания было “не ставить надо
мною памятника и не помышлять о таком пустяке...”.
Тем не менее не участвовавшие в похоронах
Аксаковы привезли из южных степей и поместили на
могиле большой валун. Этот же валун вместе с
останками был перенесен на Новодевичье кладбище,
но в 1952 году с могилы сброшен и заменен безликим
невыразительным портретным бюстом. Оказавшийся
“бесхозным” валун было разрешено поставить на
могилу мужа вдове писателя М.А. Булгакова. Автора
“Мастера и Маргариты”.
Завещание содержало и еще один раздел: “Объявляю
также во всеуслышание, что, кроме доселе
напечатанного, ничего существует из моих
произведений: все, что было в рукописях, мною
сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в
болезненном и принужденном состоянии. А потому,
если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под
моим именем, прошу считать это презренным
подлогом”.
Речь шла о 1845 годе. Но Гоголь еще раз уничтожил
свои рукописи в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года.
Никаких изменений в завещании не последовало.
Верно, что он почти до конца работал над второй
частью “Мертвых душ”, верно, что читал первые
семь ее глав своим знакомым. Но, по-видимому, не
счел их отвечающими своим новым представлениям о
литературе, литературной форме в России. И трудно
согласиться с исследователями, которые любой
ценой хотят восстановить то, что было отвергнуто
предельно требовательным к себе писателем. А
если говорить о нашем долге перед памятью
великого писателя, то заключается он совсем в
ином.
В 1880 году, во время торжеств по случаю открытия в
Москве памятника Пушкину, драматург А.А. Потехин
предложил начать сбор средств на памятник Гоголю
– от всего народа России. Ни правительство, ни
официальные институты не приняли участия в новом
движении. И тем не менее необходимые средства
были собраны. Право сооружения памятника получил
в результате настоящего (открытого для всех!)
конкурса недавний выпускник Московского училища
живописи, ваяния и зодчества Н.А. Андреев. 9 мая (по
новому стилю) 1909 года состоялось торжественное
открытие. Снова стихийные, снова без участия
властей предержащих. На Арбатской площади,
прилегающих улицах собралась едва ли не вся
московская молодежь, все гимназии, реальные и
иные училища возлагали венки. Детский хор из 2 500
голосов человек под руководством М.М.
Ипполитова-Иванова и в сопровождении военных
оркестров исполнил специально написанную
кантату памяти великого писателя. Вскоре в
Москву приехал из Ясной Поляны Лев Толстой, чтобы
познакомиться с памятником и остался очень
доволен его значительностью. Но...
В 1951 году памятник Н.А. Андреева в силу
“неправильной трактовки” образа Гоголя был
снят. Вскоре его место занял дежурный, ничего не
выражающий монумент. Через несколько лет место
для старого (общенародного) памятника было
найдено – в тесном дворике последней квартиры
писателя, на Никитском бульваре. В бешеных тратах
на празднование 850-летия Москвы не нашлось очень,
в конечном счете небольшой суммы, чтобы вернуть
выдающееся произведение русской скульптуры на
место, выбранное для него москвичами и во всем
оплаченное ими.
Еще хуже обстоит дело с самой мемориальной
квартирой. Сегодня она составляет лишь отдел
Городской библиотеки №2 имени Гоголя (впрочем, и
присвоение этого имени оказалось делом далеко не
простым). Без музейного статуса. Без перспектив
развития. И главное – на пороге катастрофы.
Гоголевский дом подмывается поднимающимися
грунтовыми водами. В подвале под приемной
писателя постоянно поднимается вода. Здание,
имеющие в своей основе стены и фундамент палат
ХVII века, не приобрело необходимого режима
консервации и сохранения. О чем можно говорить в
условиях самой доступной, открытой всем
читателям, а следовательно ветрам и сырости,
работы городской библиотеки! Остается только
удивляться стойкости и преданности своему делу
коллектива библиотекарей. И той стойкости, с
которой Комитет по культуре города и
Министерство культуры России противостоят
всяким попыткам создать, кстати сказать,
единственный в стране музей Гоголя.
Остается снова обратиться к гоголевским строкам:
“Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в
настоящее, а глядим в будущее. Оттого Бог и уши
нам не дает, оттого и будущее висит у нас у всех,
точно на воздухе: слышут некоторые, что оно
хорошо, благодаря некоторым передовым людям,
которые тоже услышали его чутьем и еще не
проверили законным арифметическим выводом; но
как достигнуть этого будущего, никто не знает.
Позабыли, что пути и дорога к этому светлому
будущему сокрыты именно в этом темном и
закутанном настоящем, которого никто не хочет
узнавать: всяк считает его низким и недостойным
своего внимания и даже сердится, если его
выставляют на вид всем. Введите же хотя меня в
познание настоящего...”
Словам этим полтораста лет.