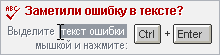На житейских перекрестках И ЗАКРУЧИВАЕТ КУЗЮ ЮЛОЙ
Прозывают этого ухватистого мужика Кузей. И еще —Полстаканычем. Вот и выходило тут и имя, и отчество: Кузя-Полстаканыч. Иначе никто и не величал. А теперь самое время о сути его рассказывать.
Сколько Кузя поставил домов, бань в одному Богу известно. Сам-то он со счета давно сбился. Был он всегда, что называется, нарасхват, и даже те, кто поначалу отказывался от кузиных услуг, зная его канючливый характер, в конце концов обращались к нему, ибо другие плотники или в силу частых запоев делали все кое-как, или вовсе не справлялись с работой по причине утраченного, а может, и неприобретенного мастерства.
— Я хоть чо выгоню, небось у таких мастеров сноровился, — и неожиданно: — Паскуда, все едино ко мне пришлепал. Много, видите ли, запросил, — обсуждал Кузя поведение нового заказчика. — Я и стою того, потому как надега... Любую лесину на конек взволоку. Один... Вон он, помощничек, Тимоня, зять то бишь мой, мать его, дрыхнет в кустах. — И уже мягче: — Разомлел. Лишь полстакана и принял. Он у меня только на подхвате. — Сплюнул. Замолк. Почесав за ухом, вроде как вспоминая, с чего бы он так разошелся, глубокомысленно произнес: — М-м-да-а...
Кто-то из нас, слушавших Кузю мужиков, а мы расположились на смолистых тесовинах, подсказал:
— Ты про нового заказчика баял.
— Во-во... Он четырех балбесов нашел, а хрена они могут, если с фигурной крышей не справились... Теперь переделывай, — то ли себя хвалил, то ли имел в виду “паскуду”, позарившуюся на услуги подешевле. — И тридцать кусков сразу нашел, жмот несчастный. На “Волге” прикатил: “Выручай, Кузя!” Вина поставил, на колхозные денежки, — и пьяненько, довольный, хмыкал. — Бывший председатель, язви его... Сбежал, наворовал — и сбежал.
Кузю не бесило, что артель, откуда этот бывший, с хлеба на квас перебивается и живет вся под скособоченными крышами в домах с присевшими, точно человек с подломленными ногами, углами, но его прямо-таки переворачивало, что нахапанные деньги (“Одну “Волгу” продал ненасытный”) подвергаются столь строгому учету. И при этом тыкал мне в лицо какой-то бумажкой:
— Смотри-коть, все проарифметил: чего в неделю должон сделать, расчет в кажную субботу... И вина боле не ставит, только с почину и хлебнули. Жмот несчастный...
Кузя пил, как почти все в этом дебильном районе расхристанной России, но никогда не в ущерб работе. Приняв полстакана, начинал петь и вслед ему вторили топор с пилой. Отрывали его от дела лишь очередные полстакана. В подпитии ладил все добротно и особенно тщательно, однако за ним надо было следить, словно за закипающим чайником, грозящим залить огонь. Как бы ни канючил Кузя, находясь в таком пограничном состоянии, — наливать ему не следовало ни в коем разе. На это надлежало иметь характер — Полстаканыч в своем упрямстве даже дар речи терял и норовил пудовым кулаком двинуть.
Говорили, что Кузе было где-то около семидесяти, что деньги он нес домой справно, аккуратно. Жена — баба глупая, но благодаря партийной книжечке выбившаяся в свое время в мастера на швейной фабрике — теперь день-деньской грела задницу у печи в захламленной комнатенке, напрасно дожидаясь обещанной коммунистами квартиры: “Я же сорок лет в кэпээсэс, — твердит она мне, — и чтобы воду из колодца таскать до конца жизни...” А вот он уже, дожидальный, которого боимся и думаем, что он где-то за окосмами, почти на пороге: хотя она еще баба крепкая и ничем, собственно, не обремененная. Выходит, мучаться поджарому, скрепленному из одних мышц Кузе еще доведется — он свою Степаниду терпеть не может, дважды уходил из дома, но Верка, старшая дочь, оборотистая и ухватистая, всякий раз водворяла отца назад. Жалостливый он, и била она точно — по жалостливому характеру. Так и поднял двух девок, маясь с их матерью, к которой, как считает, черт его подвинул. Говаривал, что жизнь она испоганила не одному ему, но и Ленке, меньшой, любимице его, подтолкнув дочь на кражу каких-то ниток на фабрике. Та отсидела два года и недавно вернулась, да не одна — приволокла смоляного дылду, с зыркающими, подвальной холодности голубыми глазами. Толковали, будто засунул он головой мужика в топку, усомнившегося в его мастерстве, чтобы тот мужик, значит, посмотрел аж на все пять колен выведенной им печи.
Ленка сразу усмотрела его талант, и где только (!), поняв мгновенно, что вот оно, то желанное, долго дожидаемое непременно ее, и, если Бог даст, быть и ее рукам при деле.
Да и девка она видная; грудей полная запазуха, улыбка ямки на щеках бурит, волос на голове густой, плечи давит. “Хоромок на высоком фундаменте, — ладит о ней Кузя, — разве ж кто устоит, откажется от нее”. Словом, живет с тем парнем. Вместе печи кладут — из ближних деревень за ними едут. Спрос большой при нынешнем строительстве. При деньгах часто бывают, но порой до первого магазина. И пьют вместе, пока все не спустят.
Ютятся Ленка с Тимоней в каморке, где не уместишь ноги, развалясь на полу. И не имеют в отличие от Верки ни огорода, ни картофельных делянок. Вот так и Кузя — всю жизнь строит, а себе даже собачьей будки не поставил. Спит в задымленной керогазом кухне. Долгие годы он забрасывал ранней весной котомку за плечи и уходил почти до зимы на шабашку (тогда мало кто строился). Возвращаясь домой, покупал на забой теленка, впрок картошки и с грустью дожидался первых прогалин на дорогах.
Ему и до сих пор, если не бывает заказов, не сидится дома. Норовит уйти в лес по грибы, ягоды. Ляжет на мхи, утонув в них, желанно зажмурится и мысленно видит горячую, скорую на дело молодуху, что оставляла его в потаенной деревеньке. “Приблудился бы, да Ленка с Веркой уже росли. А теперь и хозяйство”, — на последнее напирает, мол, куда бежать. Рассказывает, как принимал недавно теленка от Веркиной коровы, и будто радуется дочкиному достатку, но, приняв полстакана, несет ее: “Лахудра, все мало, один дом поставил — продала, теперь вот другой ей давай, загрызла. Да пошел бы ее теленок к фениной маме, пузырь ненасытный”.
В не копатливом Кузином сердце, ровно отзывающемся на все фокусы жизни, щемяще давит одна нота: почему ему не дано быть самим собою. Ну на хрена ему Веркина телка, на хрена ему прыгать по грядкам, на хрена ему паркеты, о которых мечтает Степанида... Как высоко она берет, эта нота! Рвет с ворота рубашку и — под ветер. И трет он дубленую свою кожу под левым соском.
Работа для Кузи — ширма, за которой можно скрыться от постылого дома, зуды-жены. Там, за этой временной перегородкой, он обретает свое “я”, там набирает полную глотку воздуха, там расправляет плечи, живет в своих звуках, воспоминаниях. Кузя уходит в другой, свой мир, где и крутится юлой себе на радость.
И хотя Кузю кормят топор с рубанком, подозреваю, забросил бы их, останься он у той работящей молодухи. И едва ли подумал о своей ненужности, рассказывая байки из собственной шлялой жизни. Тарахтит часами. Завести с ним разговор после двух полстаканов — упаси Бог. Подрядивший его человек, не зная этой кузиной слабости, буквально дуреет от словесного шквала.
Ты, милый, еще полстаканыча плесни, — канючит Кузя, переходя с одного на другое, — я тебе клюквенные места открою, — и глазами выпрашивает, и взглядывает пристально, мол, чего не шевелишься, и не забывает в который раз, упомянуть о положенном задатке.
— Водка в счет задатка.
— Водка? — будто не понимает и начинает рассказывать, как прибился однажды к рыбачьей артели и та посадила его на свой кошт. Отрабатывал языком и продавал на проходящие суда чужие уловы за полстакана. “А куда этих лещей, щук, чего их в Волге — полно! Наловят...”
Солнце уходит за ближний лес. Кузя скучнеет — пора домой. Завтра он опять явится спозаранку, выканючит первые полстакана и запоет вместе с пилой и топором...
Владимир ЧЕРТКОВ.
Тверская область.