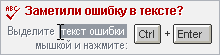Чеховская "Чайка" снова стала комедией
Никто не ожидал, что в чеховской "Чайке" можно ещё что-то открыть и заставить взглянуть на неё по-новому. Но именно это случилось в "Школе драматического искусства".

Нет, речь не о "новизне" контркультурщиков, связывающих классику со своим личным безумием. Идея заключалась в том, чтобы оттолкнуться от первой редакции "Чайки", ещё не общипанной цензорами, и воскресить её как комедию.
Чехов, по мысли режиссёра Павла Карташёва, неслучайно назвал свою пьесу комедией. В ней чрезвычайно много смешного. Просто та жизнь, которую она отражала, во многом забылась. А в ней огромное место занимал водевиль. Он был любимцем русской сцены, и Чехов, как человек с юмором, был в его стихию влюблён.
В "той жизни" огромное место занимала сатира, которая ясно определила своё отношение к тому, что позже назовут "авангардом". Чехов был первым, кто показал "искателя новых форм" нелепым, бездарным существом, не знающим жизни и измученным комплексами. Его Треплев — пародия на "революционеров сцены", "маньяков эксперимента". И в этом истеричном существе мы узнаём как вчерашних, так и сегодняшних "звёзд режиссуры", обласканных "продвинутой" критикой. Все они, как и Треплев, рвутся крушить "старое" ради торжества пустоты. Всем им нечего сказать о человеке, всем безразлична драма. И все они, как Треплев, сеют смерть — метят в душу цивилизации. Чайка её и символизирует.
Сатире и водевилю пьеса обязана образами хама-управляющего Шамраева, сторонника лечения валерьянкой Дорна и учителя-размазни Медведенко.
Чехов смеялся и над собой: смехом изгонял из себя графомана Тригорина, ставшего рабом своих публикаторов и своей стареющей "дамы сердца". Поэтому приходится только удивляться тому, что смешное никто не рискнул выдвинуть на первый план и развить.
В начале своего века "Чайка" стремительно облетела сцены и превратилась в священный текст, который немыслимо тронуть и который можно лишь донести до публики как святыню.
Карташёв против этого тоже не возражает. Но при этом доводит образы до комического гротеска и решительно тормозит перед чертой, за которой начинается пространство вульгарности. Вот туда ему точно не надо, поскольку именно там убойно, кислотно, зверски самовыражаются "революционеры сцены" и "маньяки эксперимента", чьи имена на слуху. Эта компания и без того незримо присутствует в постановке. Она бродит тенями вокруг своего Треплева и вместе с ним погружается в подпол, прямо на обеденный стол дьявола.
Карташёв собрал замечательный актёрский ансамбль, где представители разных школ плывут в одной перевёрнутой лодке.

Этот образ, нависающий над сценой и медленно опускающийся, пробуждает тревогу и сострадание. Нам-то известен финал. А им там, на сцене, он явно неведом. Эта лодка — как "медный таз", которым скоро накроется вся эта чудесная жизнь, где "романы, романы, романы" и где искусство тонет в банальности, а "новизна" заряжена идеей торжества смерти.
К примеру, парящая над землёй Заречная не понимает, что скелет перевёрнутой лодки, который к ней опустился, может, и походит на крылья чайки, но, по сути-то, "медный таз". На таких жутковатых крыльях парить можно только над бездной и лишь в последнее мгновение жизни.
Своим комическим гротеском Карташёв пытается всё обнажить: разъяснить то, что осознал в своих долгих беседах с Чеховым. "Ну вот же, смотрите, над чем он смеётся", — говорит режиссёр и показывает "бурю в стакане", бунтующую против своей судьбы личность.
Эта личность смешна. Она смешна до горьких слёз в своём бунте и своих причитаниях. Она предъявляет претензии то власти за свою нищету, то своему сердцу, которое никак не может разучиться любить, то длинной служебной лестнице, с высоты которой не видно ничего, кроме потерянной жизни.
Режиссёр явно даёт волю артистам, и те наслаждаются странностью или нелепостью своих персонажей.
Тригорин здесь — это манерный горожанин, совершенно ошалевший от деревенского воздуха, растёкшийся душой по просторам и ошарашенный видом реального карася. Сбросив доспехи, утратив мужественность (которой и без того-то немного), он стал походить на дамочку, готовую хлопать в ладоши от эйфории.
Шамраев здесь — явный вор и особого рода хамло. Это мастер жанра "шутка для одного", достающий Аркадину, эту "королеву сцены", расспросами о провинциальных артистах. Он её с ними уравнивает и явно доволен, когда она злится. Он вообще не прочь достать всех: своего нанимателя Сорина, свою жену, своего зятя. За что? Да за многое! За то, что всем от него что-то надо. За роман жены с доктором. За то, что передохли индюшки. За всё это проклятое хозяйство, где он вынужден копаться и подворовывать себе на старость. Он достаёт всех, чтобы не удавиться. И его истерика, вроде как на пустом месте, невероятно смешна.
В комизме постановки как-то совершенно иначе воспринимается Дорн, равнодушно глядящий на неизбежное угасание жизней и вдруг (как врач) чувствующий в треплевском символизме восторженную капитуляцию перед смертью, оду её величию. Он вываливает на голову автора кучу комплиментов, потому что тема смерти — это единственное, что его ещё возбуждает и выводит из состояния овоща.

Почти все персонажи бьются, как птицы в клетке. И это наводит на мысль, что с самой "Чайкой", когда её разлучили с комизмом, произошло нечто похожее. Её посадили в клетку и держали в ней целые поколения культурологов. Её изначальный текст не вернули, а канонизировали подцензурный. Да ещё и залили лаком, чтобы стало совсем не смешно. В итоге мало кому приходит в голову выпустить "Чайку" на волю и через комическое что-то крайне важное прояснить.
Это важное заключается в том, что "Чайка" не противостояла новизне и тому, что будет названо авангардом. Она сама была исполнена новизны, и сама была авангардна. "Чайка" указала на опасность, которую таит голое формотворчество. Она сатирически показала, что это путь в никуда, в шизофрению и гибель. Чехов ясно заявил, что подлинный авангард не может быть оторван от смыслов, от драмы. Отрываясь, он становится лже-авангардом, имеющим чисто танатическую природу.
И сегодня мы удостоверились в его правоте. Мы увидели дикое самовыражение коллективного Треплева — оборзевшего хипстера, открыто воюющего с культурой.
ШДИ (Большой зал на Новослободской) — это особая сцена, и режиссёр отдаёт дань её специфике. Он чисто авангардно ставит игру в лото и эпизод перед "занавесом". "Случайный" зритель может и не понять, зачем здесь густо читаются реплики. А "неслучайный" видит, что режиссёр в своём исполненном трагизма финале указывает на живой текст пьесы, с которого он аккуратно снял лак.