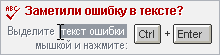Что испытывал Андрей Боголюбский, когда построил Храм Покрова на Нерли
С детства я мечтал о лодке. И когда подрос, на чем только не ходил: и на смоленых плоскодонках-дощаниках, и на плотах, и на резиновых надувных, и на байдарках, конечно, и на катамаранах...

Когда идешь по реке, остановиться невозможно. — так и тянет увидеть поскорее, а что же там, за поворотом.Одно время даже в одиночку пускался в путь. Ведь пока компанию сколотишь, тем более экспедицию на серьезный или долгий маршрут, — хлопот не оберешься. А тут — прицепил надувную лодку к рюкзаку, весла в руки и — в дорогу, сам себе хозяин.
Так однажды, решив пройти по Протве, добрался я на перекладных до Боровска уже глухой ночью. На окраине, на какой-то стройке, раздобыл досок, развел костерок, подогрел еды, завернулся в спальный мешок да и уснул на сухом пригорочке у трансформаторной будки.
Утром огляделся, собрался, спустился к реке. Как оказалось, подъехал я к Боровску не ниже по течению реки, а выше. Значит, придется мне идти через город. В походах никто не любит населенку, как говорят водники, но что поделаешь — это ведь не Сибирь и не Казахстан, а Подмосковье, тут на каждом шагу городки да села...
Наладив лодку, отчалил. Пока укладку вещей утрясал и весла пробовал — уже и к Боровску подошел. Огляделся — и дыхание пресеклось. Течение на Протве быстрое, река петляет, да еще я весла бросил, так что лодку плавно вращало в водоворотах-завихрениях — и как в медленной круговой панораме проплывали передо мной купола и шпили бесчисленных храмов, ничем не загороженные, не заслоненные, как в городе, безобразными корпусами, а открытые взгляду на высоких берегах.
Так вот в чем дело! — ахнул я. — Вот ведь в чем дело, господи!..
Река — дорога древних. Других дорог в те времена просто не было. И города и веси, дворцы и храмы ставились древними зодчими так, чтобы открывались они с реки — с главных ворот города, со въездных путей! Без взгляда с реки нельзя постичь замысел древних архитекторов, невозможно понять и увидеть древнерусские города! И я — случайный счастливец. Не броди я по рекам, так бы и не узнал, не увидел. Как не видят и не знают наших городов почти все люди. Только тот, кто идет по реке, входит в город по реке, видит его настоящим, таким, каким открывался он нашим предкам и пять, и десять веков назад. С тех пор, с того моего открытия, прошло добрых два десятка лет.
Понятно, что придя на телевидение, я сразу же и задумал снять фильм. Показать. Смешно вспоминать сейчас... Тут многое, опять же, совпало. И бедность телекомпании “Мир”, и мой телевизионный дилетантизм пополам с нахальством, и моя же совковая привычка экономить казенные деньги. Для такого-то фильма большая бригада создается: директор, администратор, режиссеры, помощники, и прочие, и прочие.
У нас же вся съемочная группа состояла из водителя Александра Иваныча Дидко, оператора Саши Терентьева и меня. Видеокамеру взяли, которая похуже и подешевле необходимой раз в десять. Настоящую, дорогую, побоялись утопить или испортить. И верно, могли. По реке Луже мы с Сашей часа три шли под холодным осенним дождем. О себе не думали, — простынем да и все, — мы камеру своими телами прикрывали. А на Протве запросто могли японскую чудо-технику булькнуть в глыбь. Саша раза четыре едва не вываливался за борт. Мы ведь съемки вели не с твердого настила плоскодонки или катера, а с двух моих хлипких резиновых лодчонок, скатамараненных при помощи весла. Накануне мы все окрестности Боровска обрыскали, в две-три деревни наведались, чтобы нанять лодку или катер, — и не нашли: не держит нынче народ на Протве лодок...
Но так или иначе, фильм мы сняли. Сама мысль, идея-открытие, натура сама такая, что их трудно было испортить. Многие из знакомых говорили, что впервые осознали, впервые увидели... Действительно, я ведь дал другую точку зрения — в самом прямом, буквальном смысле слова.
Анатолий Ким, главный редактор нового журнала “Ясная Поляна”, просил, чтобы я написал для них о древнерусской архитектуре, именно о взгляде. Я обещал, но не смог сделать, потому что очень тяжело, трудно — после фильма, где все — показано. И правда, какими словами нарисовать тихую речку Кoлокшу, что в Юрьеве-Польскoм. Возле города и в городе она, перегороженная плотинкой, с почти остановившимся течением, грязненькая и мутненькая. А в фильме — светится! Потому что в окнах церквей, в каменных бойницах колоколен, которые стоят на самом берегу, загорелось закатное солнце — и все это вместе отражается в воде; и на экране, перед глазами, сразу два храма: один — плывет вместе с легкими облаками в голубом небе, второй — мерцает в таинственной синеве реки, по которой скользят, кружась, узкие желтые ивовые листья.
Река, река... Дорога ушедших времен и ушедших людей.
И храм Покрова на Нерли, восьмое чудо света, поставлен так, что ярче всего и полнее всего подтверждает непреложное правило древних зодчих. От окраины села Боголюбова мы шли на веслах по Нерли часа полтора — и на всем пути он открывался нам с разных сторон, как бы сопровождал нас. Или — встречал... Потом мы высадились на берег. А можно и дальше идти по реке, огибая полуостров, до впадения Нерли в Клязьму, — и все время тонкий силуэт церкви будет парить над речными излуками и прибрежными лугами и перелесками. А она ведь маленькая, очень маленькая. И с Нерли ее видно, и с Клязьмы! В ту поездку я взял с собой жену и дочку.
Счастливица Динка, она в одиннадцать лет увидела и узнала то, до чего ее отец своим умом и случайным опытом доходил четверть века. — Не мог человек задумать и сделать такое, — сказала Маша, — Если только по Божьему промыслу.
Страшно представить, что же должен был почувствовать Андрей Боголюбский, когда завершилась церковь, когда он понял, что как бы выполнил Божий промысел... И что же чувствовали мастера, когда увидели и поняли, что это они своими руками сделали ее? Не представляю. Даже боюсь представить. Андрей Боголюбский, человек, близкий к Богу, наверно, молился, сливался в молитвах с Богом и душа его полнилась какой-то высшей благодатью. А мастера... Они тоже молились, А потом — в чем я почти уверен— упились вдребадан. Вусмерть. И долго еще пили, чтобы заглушить себя. Не чувствовать. И так ведь, спустя восемь веков, смотришь, и кажется, что душа не выдержит...
Страшная сеча на Липице
Почему Юрьев-Польскoй не включили в “Золотое кольцо”? Такой же древний, как Переславль Залесский, в один с ним год основан великим князем Юрием Долгоруким. Конечно, не так богат монастырями и храмами, но все же... Сохранился земляной вал двенадцатого века, опоясывающий исторический центр, буквально завораживает глаз Михайло-Архангельский монастырь, в котором сошлись архитектурные стили нескольких столетий.
И, наконец, там, в Юрьеве-Польскoм — Георгиевский собор тринадцатого века, который даже среди уникальных памятников древнерусской архитектуры стоит отдельно, особо.
И тем не менее — Юрьев-Польской обойден. Что, конечно, обидно и досадно и властям, и самим горожанам. Ведь включение в туристский маршрут, по которому возят иностранцев, это не только лестное “включение” в большой мир, но и немалая выгода. И деньги в бюджет пошли бы другие, и строительство давно бы здесь развернули, чтобы не ударить перед иностранцами лицом в грязь. Преобразился бы город. Но...
И никто не знает точно, почему, в чем причина? Может, в том, что неказист городок, сильно проигрывает соседнему Переславлю-Залесскому, и, тем более, соседнему же Суздалю. Мол, опозоримся перед иностранцами. Хотя все тут спорно. Для кого “неказист”, а для кого как раз мил своими тихим, почти сельским бытом, не изуродованным, как в некоторых районах Переславля, железобетонными и угольными свалками, угрюмыми заборами, зловещими каркасами и ангарами так называемой промышленной зоны.
А может, были тут резоны особые, идеологические. Представим себе московские коридоры власти, где в начале семидесятых “утверждался” список городов, включаемых в “Золотое кольцо”. На совещании присутствуют люди самые разные, но среди них, конечно, есть ученые, которые объясняют, отвечают на вопросы. Учтем, что мероприятие с самого начала идеологическое, потому как, во-первых, иностранцы, а во-вторых, история. А уж когда они соединяются вместе, то бдительность удесятеренная. И вот, представим, что, дойдя до Юрьева-Польского, выслушав рассказ о монастыре, расположенном там музее, Георгиевском соборе, большой партийный начальник спрашивает:
— А что там еще есть?
Ученые люди, не привыкшие к количественному критерию оценки памятников истории, тем не менее поддаются логике начальства и добавляют:
— Там еще рядом Липицкое поле, на котором Липицкая битва произошла.
— Какая такая Липицкая битва? — удивляется начальник.
Ученые рассказывают, объясняют, и чем дальше, тем сильнее хмурится начальник, атмосфера совещания недобро сгущается. Это чувствуют и ученые, но поздно — слово вылетело.
— Ни в коем случае! — постановляет начальник. — Не хватало еще иностранцам про это рассказывать.
— Так мы и не будем! — пытаются оправдаться ученые и начальники рангом поменьше. — Мы и не включили его в маршрут, да там и возить некуда и показывать нечего, иностранцы про него и не знают.
— Ну да, не знают! — саркастически обрывает их большой начальник. — А как только попадут туда, так сразу и начнут выспрашивать да выпытывать. А потом растрезвонят по “голосам”. Нет уж, Юрьев-Польской вычеркиваем! И вообще! — поднимает он голову и обращается уже ко всем. — Внимательней надо быть, товарищи. Не вам объяснять, какая сейчас обстановка в мире, так что мы тут всё должны учитывать!
Повторюсь: это — мои домыслы, предположения. Возможная модель возможных событий. Скажем так, вполне вероятных. Потому что более весомых причин для невключения Юрьева-Польского в “Золотое кольцо” просто нет. А малоизвестная и поныне Липицкая битва, или битва на реке Липице, близ города Юрьева-Польского — самая страшная в истории средневековой Руси сеча между русскими и русскими.
Чтобы представить масштаб ее, перечислим участников, удельные княжества, которые выставили своих воинов. С одной стороны — все вооруженные силы Владимиро-Суздальского великого княжества. “И были полки у них очень сильны, — отмечает летописец, — из сел погнали даже пеших”. То есть, было нечто вроде тотальной мобилизации.
- Владимир,
- Суздаль,
- Муром,
- Переславль,
- Торжок,
- Юрьев —
всех собрали. А еще были в том войске и не владимирские люди, а пришлые, наемные, называли их бродниками. Против владимирской рати вышли на поле битвы объединенные войска Новгорода, Пскова, Смоленска и Ростова Великого...
Особое ожесточение противостоянию придавало то, что в обоих лагерях и войсках во главе стояли выступившие друг против друга в смертельной вражде родные братья — сыновья Всеволода Большое Гнездо. Владимирской ратью командовали князья Юрий и Ярослав Всеволодовичи, а в объединенной армии вместе с Мстиславом Удалым тон задавал их брат Константин Всеволодович, князь Ростовский, боровшийся за то, чтобы ему, старшему из сыновей Всеволода, и достался по праву отцовский престол во Владимире. Да и Мстислав Удалой тоже не чужак — он был тестем своего врага Ярослава.
И все же, когда рати выстроились друг против друга, за день до битвы, противники попробовали договориться. К Ярославу и Юрию пришли послы с предложением:
“Дадим старейшинство Константину, посадим его во Владимире, а вам вся Суздальская земля”.
Юрий и Ярослав дали Константину такой ответ:
“Пересиль нас, тогда вся земля твоя будет”.
Потому что они накануне уже все поделили. После битвы смоленские ратники в одном из брошенных шатров нашли “грамоту”, в которой письменно был закреплен их устный договор:
“Мне, брат Ярослав, Владимирская земля и Ростовская, а тебе — Новгород; а Смоленск брату нашему Святославу, а Киев дадим черниговским князьям, а Галич — нам же.”
Все поделили. А чтобы имена их не были отвлеченными, напомню, что Ярослав впоследствии родил сына Александра, который стал Невским. А Юрий — это тот самый Юрий, который не пришел на помощь рязанцам, бьющимся с Батыем.
И вскорости сам бесславно погиб на реке Сити. Но это — через два десятка лет.
А пока — войска стоят друг против друга. Одни — на Авдовой горе, другие — на Юрьевой горе. Меж ними — ручей Тунег. Чуть в стороне — речка Липица и то самое поле, куда они сейчас отойдут и где начнется та самая битва.
О предстоящей жестокости сечи говорило и то, что некоторые особо отчаянные воины на поле боя “выскочили босыми...” Летописец никак не комментирует, не поясняет сию деталь. Видно, для современников она и не требовала объяснений. Нам же остается только предполагать. При тогдашних нравах мародерство, раздевание и разувание убитых почитались чуть ли не нормой. И потому, наверно, демонстративно разуваясь, воин как бы объявлял, что не рассчитывает остаться живым, выходит на смертный бой.
В предположении нашем можно быть уверенным, если вспомнить, что некоторые князья в самые отчаянные схватки вели своих воинов с обнаженной головой. То есть, знать снимала шлем, а простолюдины скидывали сапоги и лапти... Когда закончилась сеча,
“можно было слышать крики живых, раненых не до смерти, и вой проколотых в городе Юрьеве и около Юрьева. Погребать мертвых было некому... Ибо убитых воинов Юрия и Ярослава не может вообразить человеческий ум”.
За один день 21 апреля 1216 года в сражении на Липицком поле было убито “девять тысяч двести тридцать три” русских воина, гласит летопись. При тогдашней численности населения это равносильно чуме или моровой язве.
О масштабе потерь потерпевших поражение владимиро-суздальцев ярче всего говорит такой факт. Когда князь Юрий, загнав трех коней, на четвертом примчался к стенам Владимира и обратился к горожанам с призывом запереть ворота и дать отпор врагам, те ему ответили:
“Князь Юрий, с кем затворимся? Братие наша избита..”.
Сколько же всего полегло в той владимиро-суздальско-муромо-новгородско-смоленско-псковско-ростовской междоусобице, включая стариков и женщин, всегдашних жертв мародерства и пожарищ, никто не знает и не узнает.
В одной из опубликованных бесед Л.Н.Гумилев с нескрываемым ужасом восклицает:
“Столько не потеряли за время войн с монголами!”
По сведениям, приводимым историком А.Н.Насоновым, в годину монгольского нашествия только на Галицкую Русь всего там погибло двенадцать тысяч человек. Анализируя эти и другие данные, Л.Н.Гумилев заключает: “следует признать, что поход Батыя по масштабам произведенных разрушений сравним с междуусобной войной, обычной (курсив мой — С.Б.) для того неспокойного времени”. К концу своей жизни Владимир Мономах подсчитал и написал в “Поучении”, что “всего походов было восемьдесят и три великих, а остальных и не упомню меньших.”
Из них девятнадцать — на половцев, которых нельзя было назвать чужими, потому что русские распри были одновременно распрями их родственников, половецких вождей, и— наоборот. В общем, восемьдесят три похода за пятьдесят восемь лет княжения. Получается — полторы войны на каждый год сознательной жизни. Но даже для смутных лет Руси та кровавая распря и завершившая ее битва на Липице — событие особо трагическое... А иностранные туристы не ездят в Юрьев-Польской и по сей день. И, за собственным отсутствием, не просят повезти их на Липицкое поле, рассказать и показать. Да и показывать там нечего...
В створе видеокамеры дрожит сухая былинка на ветру, за ней — буро-желтые весенние увалы, жесткая прошлогодняя стерня, черная пахота, нежная зеленая полоса озимых. А все остальное — буйный кустарник, корнистый и крепкий. Так и карабкается с бугорка на бугор, с увала на увал. Горок-то поди уже нет, посравнялись с землей. Глядь, какая старуха в Юрьеве еще вспомнит про Юрьеву Горку, да за голову схватится: то ли сама придумала, то ли неведомо откуда на язык пришло от прабабок еще.
Авдова гора и вовсе не упоминается, про ручей Тунег никто и слыхом не слыхивал, а услышит — так примет за что-либо немецко-басурманское, язык сломаешь...
Правда, о Липице что-то слышали: не то ручей пересохший когда-то был, не то овраг сухой, не то поле возле него, но точно сказать, где оно начинается и где кончается, — никто не знает да и не задумывался. Все поглотила и все забыла земля за семь прошедших веков. Конечно, здесь надо поставить памятник. Или крест. Или часовню. И не иностранцев, а наших людей надо возить сюда. Наших. Кстати, повесть о битве на Липице написал новгородец. Он и не скрывает симпатий к своим.
Но ведь те же смоленцы — союзники новгородцев, и летописец мог хотя бы к ним отнестись дружелюбнее. Но нет. Он пишет:
“Новгородцы же не ради добычи бились, а смольняне бросились на добычу и обдирали мертвых...”
Так ведь не было на поле боя летописца, верно, с чужих слов писал. И знал же, что мародерствуют часто и те, и другие, но поди ж ты, своих изобразил борцами только лишь за идею, а смольнян на семь веков пригвоздил к позорному столбу. Нет, того, что мы называем объективностью, не было и тогда. Наших людей надо возить на Липицкое поле, наших...
Гений Георгиевского собора в Юрьеве-Польском
Девочка рисует на сером асфальте рожу с оттопыренными ушами, и чтобы не было сомнений, кого она изобразила, крупно надписывает:
“Вовка Никитин дурак, осел и глупый крокодил”.
У палисадников, на кудрявой траве, пасутся гуси. Бабушки беседуют на лавочках, а мужики перекуривают, сидя на свежераспиленных чурбаках: дрова к зиме уже заготавливают. К церковной железной ограде привязана палевая пушистая коза. Когда хозяйка подходит к ней, коза вытягивает шею и нежно целует хозяйку в лицо.
Идиллия маленького городка. Юрьев-Польской. Круглая церковная площадь. Тихий вечер.И в центре площади, в центре этого обыденного житейского круга, приземистый каменный куб с таким же массивным, тяжелым куполом — Георгиевский собор.Горожане, особенно те, чьи дома выходят окнами на площадь, его почти не замечают. Когда они родились, он уже стоял здесь. И когда их отцы родились, он тоже был. И когда их деды, прадеды и прапрапрадеды... Для них он — часть пейзажа, как небо.
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском — единственный на Руси.
Он сам по себе, еще с момента рождения, некая художественная загадка. А дорогу к ее решению как будто нарочно запутала судьба.Нынешний собор построил в 1234 году практически неизвестный в истории князь Святослав, один из многочисленных сыновей Всеволода Большое Гнездо. При этом он разрушил старый, будто бы обветшавший храм, поставленный при основании города его дедом — Юрием Долгоруким, и на его месте возвел новый. Да такой, что спустя сто лет его взяли за образец при строительстве Московского Успенского собора. Но в середине пятнадцатого века случилось непонятное — Георгиевский храм в Юрьеве-Польском обвалился.
Любители предзнаменований могут вспомнить ту, старую, разрушенную церковь, и спросить: так ли уж обветшала древняя каменная кладка за каких-то восемьдесят лет, что ее надо было сносить с лица земли? Может, то гордыня говорила в Святославе, желание утвердить себя и построить свое? Пусть даже ценой разрушения старого храма. И вот, мол, расплата...
Кто теперь знает, как было на самом деле. Вообще-то князь Святослав был далеко не самым амбициозным из многочисленных буйных детей Всеволода, заливших немалой кровью родную землю. Скорее наоборот, Святослав был, по сравнению с братьями, тихим. Во всяком случае, удельный городок Юрьев-Польской в то время почти никакой роли в политике не играл, и летописями Святослав никак не отмечен. В пятнадцатом веке Юрьев-Польской был уже владением Москвы, и потому сюда из Москвы направили зодчего Ермолина с заданием — восстановить Георгиевский собор. Что он и сделал, собрал его из прежних блоков.
Но при этом часть их оказалась “лишней”, так что одного-двух поясов явно не хватает и нынешний собор гораздо приземистей, чем он был при рождении. Вдобавок ко всему, многие блоки перепутались, чего нельзя было допускать никак, потому что они являлись составными частями единой композиции. Единой картины.
Суть в том, что Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, единственный на Руси, снизу доверху украшен резьбой по белому камню. С художественной стороны горельефы собора сами по себе давно уже признаны всеми специалистами “уникальными”, “непревзойденными”, “вершиной древнерусского искусства”, так что не мне состязаться с ними в оценке.
Я — о другом. О самом мастере и — о темах, о сюжетах его работы. Итак, представим себе: на дворе у нас начало тринадцатого века. Городок Юрьев-Польской — довольно глухой уголок Руси вообще и Северо-Восточной Руси в частности. Не Ростов Великий и не Муром, не Суздаль и не Владимир, тем более не Новгород и не Киев, не Болонья, Кембридж или Саламанка с их тогдашними университетами и богословскими кафедрами. Однако мир христианской культуры един. И потому вполне естественны и понятны сюжеты-композиции
- “Троица”,
- “Преображение”,
- “Семь спящих отроков эфесских”,
- “Даниил во рву львином”,
- “Вознесение Александра Македонского”...
Но дальше начинается нечто не очень понятное. Во-первых, львы. Их много, на всех стенах. Скорбные, мудрые, ухмыляющиеся, философски задумчивые, размышляющие, сложив тяжелую голову на скрещенные лапы в позе совершенно человеческой...
Как будто сошли с древнеперсидских миниатюр, со страниц персидского эпоса и персидской истории, в которой традиционно львы — опора престола, гроза всем и всему. А здесь...
Многовато их все-таки для владимирского городка, не самый популярный и не самый характерный зверь для тутошней природы. Ну хорошо, говорю себе, и древнеперсидские “львиные” мотивы не диковинка, потому как торговля всегда шла и персидские ткани всегда ценились, да и давно уже лев повсеместно стал символом мощи и власти самодержцев. Во всяком случае, на владимирской земле — точно.
Произведения искусства — особая статья, они могут питаться и отраженным светом из глубины минувших веков, и фантазиями и личными пристрастиями художника или группы художников. Но вот факт самый что ни на есть государственно-житейский: на гербах всех владимирских городов — лев. Лев с крестом. Однако и ангелы здесь тоже не совсем обычные. У них я, присмотревшись, увидел на горельефах четко прорисованные детали крепления крыльев к рукам!
То ли автор знал миф об Икаре и Дедале и творил нечто по мотивам мифа, то ли...
Впрочем, меня занесло, сдаюсь, поскольку в древнерусском искусстве мало что смыслю и более чем вероятно, что за детали крепления я принял традиционные, постоянно повторяемые художественные приемы, как и доказывала мне музейная научная работница, поначалу даже растерявшаяся от неожиданности моего дилетантского предположения. Но ведь среди тех, кто смотрит горельефы, специалистов — считанные единицы, так что мы, простые смертные, имеем небольшое право на свое восприятие и на удивление.
И как же не удивляться этим сюжетам, столь непривычным для православных храмов. Позднее, они будут расцениваться блюстителями церковных правил как “языческие” и даже “кощунственные”, неподобающие для убранства церквей. Так их и не будет потом. А это — начало тринадцатого века, и жесткого церковного канона для художников на Руси еще нет.
Вот, например, чудо-юдо непонятное: торс и голова человека с узкоглазым скуластым ликом — на туловище зверя. Лауреат Ленинской и Государственной премий доктор исторических наук Николай Воронин, всю жизнь отдавший изучению архитектуры Владимиро-Суздальской земли, называет эти существа кентаврами-китоврасами. Но ведь кентавры -это полулюди-полукони. А здесь же ничего лошадиного нет, туловище и лапы — львиные. Так что, скорее всего, это больше сфинкс, нежели кентавр. Но в любом случае ясно одно: этот человек, автор, художник, мастер древний — одинаково хорошо знал мифы и о кентаврах, и о сфинксах, если сотворил по мотивам легенд нечто напоминающее и тех, и других.
Кстати, все львы у него — почти с человеческими лицами. Чуть-чуть подправить — и юрьев-польской сфинкс. А на той стене, где изображены маски людей и зверей, совершенно отчетливо и сознательно все двоится: не то льво-человек, не то человеко-лев, а может быть, и человеко-волк... Но и это не все. На одном горельефе рядом — целитель Козьма и...грифон. Это чудище из древневосточных мифов — помесь опять же льва с орлом.
Еще одна птица — на другом горельефе. Точнее, полудева-полуптица. Сирена — из древнегреческих мифов. И еще сюжеты, понять, уразуметь которые я не могу, потому что знаний не хватает. А я все-таки книжки читал, поскольку в двадцатом веке живу, и ученые люди собрали эпосы, мифы народов мира, перевели на русский язык и таким образом дали мне возможность узнать их.
А тогда, повторю, на дворе стоял тринадцатый век. Если точно — тысяча двести тридцатый год. И университета в городке Юрьеве-Польском не было, и библиотеки, и книгопечатания, да и бумаги тоже... Князь был, дружинники были, смерды в курных избах... и одиннадцать мастеров-камнерезчиков. И был мастер, художник, автор. Человек, который знал все мифы стран и народов тогдашней ойкумены. Не только знал. Он жил в них, трансформировал, переводил их на язык рисунка и камня.
Кто он был, кем он был? Княжеского ли рода сын, вместо меча взявший в руки кисть и резец? А может, из дружинников, а то и из смердов? Где он учился, в каких краях? Или залетная птица? Из византийских, македонских, болгарских, ближних литовских пределов? Как попал он сюда? Плотен туман семи веков, трудно, невозможно вживе и въяве представить себе этого человека, тем более в тогдашнем юрьев-польском быте.
Имя бы знать, но имя неизвестно. И остается лишь вековой туман. Не мог в те поры быть и жить такой человек! Хорошо, хоть знаем имя князя, задумавшего и волей своей поставившего храм. И не только имя — лицо его можем видеть воочию. Маска Святослава, кстати, из горельефа храма, сейчас хранится внутри, под стеклянным колпаком. Но я все равно боюсь за нее.
Зимой собор промерзает насквозь, заледеневает. Весной оттаивает, и потоки воды струятся по стенам. О реставрации же собора по нынешним временам и речи нет. Да и раньше не было. Несколько блоков-горельефов, оказавшихся “лишними” во время восстановления собора в пятнадцатом веке, лежат прямо на улице. Так и представляешь себе какого-нибудь пьяного мужика с кувалдой, который, куражась, на спор вдребезги разбивает “каменюгу” с трех ударов... А про маску я уже говорил. Слов нет, драгоценная, древняя. Но...
Иногда я думаю, что будь эта маска другого князя, тотчас бы забрали ее в Москву, хранили, показывали, писали и говорили. А что Святослав... Ничем и никому не известен. Если бы он сжег сорок деревень и городов чьих-нибудь, или десять тысяч русских людей вздернул на дыбу, тогда — да, тогда мы сразу признали бы его “исторической личностью” и создавали вокруг него легенды. А так — что ж... Ну, поставил храм. Пусть даже и единственный в своем роде. Ну и что. Этим нас не удивишь.
Как уничтожили дом Ильи Муромца
Жители Юрьева-Польскoго живут в городе. которого никогда не было в истории, и неизвестно, есть он сейчас или нет.
Хотите верьте, а хотите нет, но почти во всех энциклопедиях и справочниках он называется — Юрьев-Пoльский. Мало того, сами горожане именуют его только так. А чтобы отдельные приезжие не сомневались, на въездах в город высятся бетонные надолбы с установленными на них ажурными металлическими буквами: Юрьев-Польский.
При чем здесь поляки!? Они на Северо-Восточной Руси отродясь не бывали! А название города происходит от “поля”. Вернее, “ополья”. Край так и называется — Владимирское ополье. Пространство за лесами. Переславль-Залесский, Юрьев-Польскo й...
Иногда мне казалось, что я умом тронулся. Абсурд ведь бьет по мозгам так, что и сам не знаешь, что с тобой творится. Я почему-то ни разу не сказал, никого не спросил из горожан, чего же они свой город эдак-то переиначили? Хотя самая естественная реакция — спросить, удивиться. Но как будто кто-то мне диктовал: молчи. Я ни слова никому не сказал.
Как в Муроме. Там ведь тоже удумали: упразднили село Карачарово. То есть, включили его в черту города Мурома. А это значит, что оно исчезнет не просто из почтового перечня, а с географических карт, вообще из жизни.
Нет теперь села Карачарова, а есть только город Муром.
А ведь Карачарово не столько история, сколько легенда. Отсюда ли родом Илья Муромец, никто не знает доподлинно. Скорее всего — из Карачева и Моровска, что в Черниговском княжестве. Не случайно же в более древних сказаниях он называется Муравленин, Моровлина или Муровец из города Морова. Кстати, в тех же краях есть село Девятидубье, связанное с легендами о Соловье Разбойнике.
Оттуда же, из ближних градов и весей Черниговского княжества, ведет и та самая “дорога прямоезжая” в стольный град Киев. Ведь Илья туда частенько наведывался: то на пир, то на суд к князю. А от северного Мурома до Киева и сейчас-то добраться сложно...
С веками, когда южная Русь переходила на письменную культуру, былины отодвигались, уходили на крестьянский север. Тогда-то, наверно, и “приписали” Илью к северному селу Карачарову и городу Мурому. Кстати, в некоторых более древних, “южных” былинах он называется то “боярским”, а то и “царским” сыном. Здесь же, на севере, он прочно и навсегда стал народным, “крестьянским сыном”.
Между прочим, в нынешнем Карачарове живут его потомки. Так называют себя карачаровцы из многочисленного рода Гущиных. И даже приводят какие-то доказательства. В общем, легенда всегда обрастает житейскими подробностями. И вот — легенду уничтожили. Бедный Илья. Ему и так немало досталось от всяких словописцев двадцатого века. То объявят его лентяем, поскольку пролежал на печи тридцать три года А заодно с ним и весь русский народ. А то “защитят” — мол, это характер наш народный такой: лежим-лежим, зато как поднимемся — ух!.. Удивительно, до чего легко сочиняются “глубокомысленные” схемы и делаются “глобальные” обобщения!
Даже моя маленькая Динка возмущалась, слыша такое: что они выдумывают, папа? Они что, былин не читали? Там же ясно написано, что Илья Муромец болел, и его калика перехожий вылечил! Не читали, Динка, не читали. А только слышали звон.
Добавлю еще, что описанная в былинах болезнь была на самом деле. В Муром как-то приезжал ученый человек из Киева и рассказывал, что при помощи новейшей аппаратуры проводили обследование мощей Ильи, что покоятся в Киево-Печерской лавре. И обнаружили, что у богатыря была травма позвоночного столба. То есть, не в лени и не в характере дело, а в том, что у Ильи с детства было ущемление позвоночного нерва. Вот и лежал на печи, пока его калика перехожий не вылечил. Все, как в былине сказано.
А самое главное в том, что был, жил на самом деле такой человек — Илья. Был! И был у него, может быть и не подлинный, а всего лишь легендарный дом — село Карачарово.
И вот — его нет. Упразднили. Лишили былинного героя его родины. Тоскливая российская обыденность... Ведь никто не оскорбился, не восстал. Потому что никто и не заметил. Вернее, не обратил внимания
Все — для Бога и князя, и ничего — для себя
Много лет назад, во время одного из наших походов по лесам Подмосковья, как-то застала нас ночь возле села Истомино, под Тарусой. Мы спешили к реке, чтобы разбить ночлег. Но вдруг приятель мой, обернувшись, окликнул меня: “Смотри!
”За нами, на восходе луны, на фоне слабо светящегося горизонта, возносились к небу черные силуэты — купол и колокольня Истоминской церкви. Они возвышались над миром, и не было в обозримом сумрачном мире ничего, кроме них! А внизу, у земли, как бы лепились, прижимались к их каменному подножию сараюшки, стожки, скособоченные крыши деревеньки.
— А представляешь, как смотрели на это темные мужики в каком-нибудь восемнадцатом веке?! — сказал приятель. — Только на колени упасть, трепетать. Мрачное величие и непонятность! А тут они — в своих курных избенках...
Я вспомнил тот вечер, когда мы снимали Михайло-Архангельский монастырь в Юрьеве-Польском. Мы стояли на земляном валу двенадцатого века, который и поныне опоясывает исторический центр города.
— Бери кадр так, чтобы первый план был подробным и четким, — наказывал я Саше Терентьеву. А на первом плане — дворы, огородики с немыслимыми заборчиками, где и плетень, и разрушенная бетонная плита с разлохмаченной арматурой, и спинки старых кроватей; свиные сараюшки, дощатые сортиры, клети и подклети, белье на веревках, дрова, кучи непонятного барахла — обычный сор обычной жизни.
И над ней — вздымаются зубчатые стены и купола монастыря — красота, мощь и величие ушедших веков.
Давно точит меня мысль, которая получила яркое, зримое воплощение именно в этой картине. Окинем взглядом все, что мы видели и видим: наши церкви древние и не очень древние, монастыри-крепости грозные. И задумаемся: а что еще? Ну, несколько кремлей каменных да палат княжеских. И — все. То есть, архитектурный гений народа, ремесленнический талант, мастерство, все силы ума, души и тела — отданы, растрачены на строительство церквей и монастырей. А сами как жили — так и живем.
Да господи боже мой, если смотреть ночью, под луной, на крыши истоминских домов и не знать, что там внутри есть свет и телевизор, то далеко ли они ушли от курных изб семнадцатого века?
Вот и получается:
все — для Бога и князя, и ничего — для себя.
Так и привыкли с годами, с веками. До того привыкли, что в Москве даже богатых людей пришлось заставлять, чтобы они строили себе каменные дома. Конечно, не из любви к ним заставляли, а чтобы пожаров не было. Величие своими руками сотворенных храмов, необъятность полей и тьма лесов, и рядом с ними убогость собственного существования — не эти ли крайности вековечно разрывали душу русского человека и сказались на его характере? Не в этом ли истоки российского максимализма: пан или пропал... и в то же время дикой кичливости собственной же нищетой: полюбите нас черненькими — беленькими нас всяк полюбит..?
И еще много чего в народном характере можно вывести из этой картины. Только боюсь уподобиться той части российской интеллигенции, которая “загадку России” сделала своей профессией. И тем самым недалеко ушла от массового сознания, потому что в основе ее метаний лежит все тот же принцип максимализма: или мы — всё, или мы — ничего, или мы — и то, и другое вместе... А ведь максимализм — это потакание собственному или толпы примитивному знанию и примитивному сознанию, примитивному мышлению, а следовательно, образу жизни и поведения. Мы сами до сих пор выясняем и других учим выяснять, кто же сильнее и красивее — кит или слон. Всё обсуждаем, всё цитируем предыдущих спорщиков.
То опять пытаем бедную Россию:
“Каким ты хочешь быть Востоком? Востоком Ксеркса иль Христа?”,
сознательно или по лености мысли не замечая, что и Ксеркс, и Христос в данном поэтическом контексте не что иное, как символы с разными знаками. А символы — опасная вещь. Стоит перейти на мышление символами, как за ними моментально теряется, расплывается реальность, уходят в сторону знания и размышления.
Например, о том, что Ксеркс был обыкновенным властителем древности, строителем своего государства, не менее и не более деспотичным, чем его современники. И что именем Христа было в свое время пролито столько крови, сколько Ксерксу и не снилось.
То вспомним о степной крови, текущей чуть ли не в каждом. Вспомним, что строитель церквей святой князь Андрей Боголюбский и спаситель Руси от крестовых тевтонских походов святой князь Александр Невский — сыновья раскосых половчанок — и объявляем себя “гуннами” и “скифами”, грозя обернуться к Западу “своею азиатской рожей”.
А то отвернемся с досадой от “узкоглазых” и льнем к Западу, робко напоминая, что Азия-то начинается за Уралом, а географический центр Европы все-таки у нас, не то в районе Жмеринки, не то Житомира...
Цивилизация и цивилизованность всегда притягательны, и потому в Европу “хочут” все: и “узкоглазые” азиаты, и чернокудрые кавказцы, некоторые из которых даже объявили себя родичами испанских басков, и, разумеется, рыжие, русые, курносые и голубоглазые. Только не разрез глаз и не цвет кожи определяют Европу или не-Европу.
У народов — своя история, свои исторические, этнические и прочие стереотипы. В основном романо-германский по языку, католический по вере конгломерат западных народов обособился еще в раннем средневековье, назвав себя “Европой”, назвав себя “христианским миром”. И в нем даже католическая, но славянская Польша чувствует явственную зыбкость своей “европейскости”. Там, в том мире, издавна сложились характерные восприятия “своего” и “чужого”. Например, скандинавские бандиты-викинги три века грабили, жгли, насиловали Европу, оставляя после себя руины великих ныне городов, гарь, мор и трупы. И — ничего. Все забылось. Никто не говорит и даже не вспоминает. Потому что — “свои”. Зато не забывается мимолетное появление монголов на границах, краткие походы Суворова, казаки и калмыки в Париже.
Но ведь тогда, в восемьсот четырнадцатом, против злодея Наполеона сражались вместе со всей Европой, в одной общей армии! Вместе! Однако Наполеон, исчадие ада для тогдашнего цивилизованного мира, остался “своим”, а Россия — “чужая”. И это — нормально. И относиться следует спокойно. Потому как научный факт. Этнопсихология, если хотите. И вообще — чего мы дергаемся?
Вот что непонятно. Нам что, храм Покрова на Нерли не нравится? Двадцатипятивековые самаркандские святыни кажутся убогими? Скифская бронза тускловата? Рукописи Матенадарана начала христианской эры не внушают почтения?
Помилуйте, я же не к квасному или кумысному патриотизму взываю. А к тому, что не надо дергаться и комплексовать. Давно уже любому грамотному человеку одинаково скучны споры и метания меж “славянофильством”, “западничеством” и “гуннством”, и еще более того — их яростный максимализм.
Но мы отдаемся им с такою страстью не потому ли, что никак не можем наладить нашу конкретную, действительную жизнь? Ведь менялись времена — а у нас менялись только названия. На месте курных изб возникли бараки, времянки, соцгородки, и стояли они уже на фоне дымящих труб и корпусов, гигантов индустрии, дворцов молодежи, домов советов и дворцов съездов. Менялись идолы и кумиры, боги и князья — а мы все те же, а мы живем всё так же. Все — для Бога и князя, и ничего — для себя, — повторял я как заклинание, любуясь в Юрьеве-Польском величественными куполами на фоне сараев и сараюшек.
Русская эпоха
И все-таки, может зигзаги русской истории и русского характера, величие храмов и убогость обыденной жизни, самоуничижение чаадаевского толка и достоевские проповеди о мессианстве, и еще многое и многое другое — всего лишь следствие и отдельные составные части чего-то большего?
Представим себе поезд, в каждом купе и в каждом вагоне которого бурно спорят, дерутся, философски беседуют или же мирно дремлют самые разные люди. Они не отдают себе отчета, что во многом их теперешнее поведение — прямое следствие общего движения в общем поезде в общее время.
Будь они в другом месте и в другое время, они, возможно, не пили бы водку, не дрались, не спорили, не философствовали под влиянием проплывающих перед окнами просторов, не впадали бы в сон посреди дня, но тут попались такие соседи, что лучше дремать, чем смотреть на них, а тем более слушать...
Конечно, любое сравнение хромает, тем более такое, потому как буян найдет причину для ссоры везде, а любитель философствовать способен умствовать в любой обстановке. Правда, в поезде они могут и поменяться ролями на время или же надолго: драчун вдруг начнет предаваться размышлениям о бренности бытия, а философ — стаканами глушить водку и открывать в себе Ваську Буслаева.
Но в любом случае, согласимся, их поведение так или иначе обусловлено обстоятельствами, в какие они попали, а их сегодняшние страсти — всего лишь составная часть жизни поезда, который мчится в пространстве независимо оттого, что буян мнит, будто удержит его за дверную ручку купе, а философ рассуждает об относительности движения. Никто из них не видит поезд со стороны.
Так и мы существуем внутри русской, российской, советской и снова российской истории, называемой жизнью, часто не замечая общего движения. Даже тогда, когда кипим страстями семисотлетней давности, все равно мы судим о себе, про себя, выясняем отношения среди своих. А между тем не надо специальных знаний, достаточно общих, чтобы взглянуть на последние десять веков европейской истории со стороны и увидеть, выделить в ней три народа, оставивших наиболее заметный след и в чем-то определивших лицо тогдашнего и сегодняшнего мира. Это — испанцы, англичане и русские.
Причем ни один из них не отличался, на первый взгляд, среди прочих ничем особым: ни уровнем государственного устройства и благоденствия народа, ни количеством населения, ни размерами территории. Средневековая Испания, размерами чуть больше нынешней Туркмении и поменьше Таиланда, в четырнадцатом-пятнадцатом веках только начиналась как самостоятельное единое государство с объединения Арагона и Кастилии.
Страна была истощена, измотана многовековой войной с арабами, захватившими Пиренейский полуостров еще восемь столетий назад. Причем каждый народ боролся с маврами порознь... И тем не менее отсюда и началось первое открытие мира европейцами. Отсюда и пошли корабли в непонятные и никому не известные дали океана. В это же время зарождалась и великая испанская литература и великая испанская живопись, увенчанные впоследствии именами Сервантеса, Веласкеса, Эль Греко и Гойи. Одновременно пылали костры инквизиции и фанатики в рясах сжигали фанатиков без ряс, а еще чаще — рядовых обывателей. А корабли тем временем пробивались сквозь туман океана и неизвестность, открывая
- Вест-Индию,
- Америку,
- Магелланов пролив,
- Индийский океан...
А вслед за ними, за первыми, шли каравеллы с офицерами, солдатами, авантюристами, искателями приключений, ловцами удачи, отчаянными бедняками, обездоленными дворянами, которые становились на новых землях конкистадорами, латифундистами, фермерами, пастухами, бандитами, мешались с неграми, индейцами, белыми, давая первые поколения мулатов, метисов и квартеронцев, чьи потомки и составляют ныне испаноязычный мир, раскинувшийся от Кубы до Огненной Земли и от Кордильер до Пиреней.
Не менее фантастична и судьба англичан. По нашим меркам и Испания — не велика страна. А уж Англия-то и вовсе — чуть побольше Талды-Курганской и гораздо меньше Вологодской области. Я говорю о собственно Англии, выводя за скобки Шотландию на севере и Уэльс на западе Острова.
Государственное устройство здесь, в отличие от Испании, устоялось за предыдущие века и представлялось незыблемым. Но предельно истощен самый главный ресурс страны — человеческий. Англия только что потерпела поражение в войне, которая тянулась сто лет, ежегодно забирая самых молодых и здоровых мужчин. Однако нашлись откуда-то силы, нашлись люди, которые вступили в новую, уже морскую войну с могущественным испанским флотом и оттеснили его на всех морях Мирового океана.
Крестьяне-йомены, горожане-ткачи, эсквайры-оруженосцы, вчерашние лучники и арбалетчики, забывшие за столетие войны о мирных профессиях, младшие дети баронетов без гроша в кармане, потому что по законам майората все наследство оставлялось старшему сыну... — они разнесли английскую речь от Йоркшира до Пенджаба и Белуджистана, от Америки до Океании, сделав английский язык общеупотребительным, официальным или государственным в Канаде и Пакистане, США и Индии, Австралии и Новой Зеландии. У моего заветного друга Женьки Сергеева, умершего в пятьдесят лет, есть стихотворение “Над картиной Гейнсборо”, которое мы все десятилетия читали вслух на всех наших встречах, сборищах, пирушках...
Как вам жилось — превосходно ли, худо ли?
В замках замшелых, кленовых аллеях,
Черные лебеди,
Белые пудели
Бледные леди.
Ваши мужья на судах Альбиона,
И штормы и штили изведав сполна,
Сюда возвращались — виски убеленные,
Профили гордые, как ордена.
К огню подвигали их, ноги им кутали,
Кутали плечи им клетчатым пледом.
Черные лебеди,
Белые пудели,
Бледные леди.
А сыновья на спардеках корветов,
В груди и в спине ощутив по дыре,
От боли и брани лицо исковеркав:
“Храни Бог Британию и королеву,
Храни Бог Британию, черт подери!”
Им, от холеры сдыхавшим в Калькутте,
Им на галерах в секунду последнюю
Вряд ли припомнились
Черные лебеди,
Белые пудели,
Бледные леди...
Русская роль в истории последнего тысячелетия еще не всем очевидна просто потому, что испанские и английские события — давняя история и даже романтика, а в русскую эпоху мы живем, все — близко. Но уже достаточно времени прошло, чтобы посмотреть со стороны.
В самом начале одиннадцатого века население довольно могущественной тогда Киевской Руси составляло 5,36 миллиона человек. Примерно таким же было и население Италии. А вот во Франции — 9 миллионов!
Через пять столетий соотношение осталось таким же. К пятнадцатому веку во Франции было пятнадцать миллионов подданных, а на Московской Руси — вдвое меньше! Границы тогдашней Руси проходили у Волги -на востоке, у Ельца — на юге и не доходили до Смоленска — на западе, потому что примерно с тринадцатого по пятнадцатый век Брест, Киев, Смоленск, Чернигов, Полоцк, Витебск и Брянск были городами Великого княжества Литовского. Франция, как мы знаем, так и осталась Францией, ныне процветающей и благополучной страной в прежних пределах. А теперь окиньте взглядом то, что произошло в России и с Россией за эти пять веков.
Беглые крепостные и потомки нищих хазарских евреев-отщепенцев, степняков и непонятных бродников, ставшие терскими, гребенскими и донскими казаками, честолюбивые воеводы и вельможи, ищущие славы и царских почестей, рьяные купцы и смиренно-неистовые монахи, солдаты российской армии, в которой многие офицеры не случайно были географами, ученые-исследователи, землепроходцы и наконец-то вольные мужики-переселенцы... — все они, где верой и правдой, где ложью и обманом, где мечом, а где крестом — раздвинули границы России от Твери до Тихого океана, от Архангельска до Памира и Тянь-Шаня. Русскоязычный мир простерся на две части света, и как бы ни сложилась дальше судьба народов, а общий язык останется русским. Как испанский и английский для многих других. Конечно, об испанцах и англичанах легко писать и приятно читать. А здесь — горячо. Потому что близко.
И, как говаривал летописец битвы за Берлин, мой старший друг Василий Субботин, все равно поймут не так. Дело привычное. Обязательно кто-то обзовет меня казахским певцом русского колониализма, а кто-то решит, что он теперь превыше всех прочих просто потому, что родился в Тамбове и, к тому же, во вторник...
Понимаю бесполезность слов для них, но по обязанности должен сказать: речь не о том, о чем они подумали, а — о научном факте, об историческом феномене, которые все нормальные люди воспринимают как данность.
А гениальные люди, как Лев Николаевич Гумилев, анализируют и объясняют. В данном случае — взрывом особого вида энергии — этнической энергии, то есть, энергии народа. Другой вопрос — откуда она взялась? И почему именно у них? Ведь рядом с испанцами были французы, с англичанами — шотландцы и валлийцы, с русскими — румыны и литовцы.
Что общего и в то же время отличного от других у испанцев, англичан, русских? Происхождение. Оно у всех народов сложное от слова “сложение”. Но в данном случае испанцы — намного “сложнее” тех же соседей-французов. На Пиренеях, не считая древних иберов и кельтов, в одном горячем котле сплавились
- германские вестготы,
- арабские мавры,
- кастильцы,
- арагонцы,
- наваррцы,
а также
- галисийцы,
- каталонцы
- и баски,
которые и поныне ставят себя отдельно от всех. Однако наиболее достоверное доказательство взрыва энергии от метисации и сложности населения — англичане. Как известно, на Острове древние кельты были покорены римлянами, затем смешались с германоязычными англами, саксами и прочими. Затем туда влились буйные скандинавы-викинги.
Нормандские завоеватели принесли не только датские и норвежские корни, но также и французскую речь и латинскую кровь выходцев из Южной Франции, не говоря уже о том, что знаменитые по литературе гасконцы несколько веков были подданными Английского королевства и знались со своими английскими согражданами не только через воды Ламанша.
Когда англичане, влекомые непонятным мощным импульсом, “избытком энергии живого существа”, отправились во все края мира, испытывая судьбу, их соседи по Острову валлийцы и шотландцы — остались. Они, валлийцы и шотландцы, в своих неприступных горах на севере и западе Острова не смешивались ни с кем и сохранили в неприкосновенности древнюю кельтскую кровь и древний кельтский язык...
А русские — уж ближе и известней. Славяне, растворившие в славянском море каплю норманнских витязей, несколько веков соседствовали и даже составляли единое государство в южно-русских степях с тюркоязычными степняками. Затем, двинувшись на север, колонизировали и ассимилировали многочисленные угро-финские племена междуречья Оки и Волги — мурому, чудь, мерю, также вобрав в себя мордву, черемисов, корелов...
А потом было второе пришествие степняков, смеси монголов и тюрков, когда в Золотой Орде, преимущественно христианской по вере, стали насильственно, под угрозой смерти, насаждать ислам. Тогда-то, в четырнадцатом веке, тьмы и тьмы людей из Орды хлынули на Русь на жительство к своим единоверцам.
А плюс к этому — средневековые прибалты, те же православные литвины, ушедшие на Русь от католичества. Если в пятнадцатом веке на Руси всего населения было в два раза меньше, чем во Франции, то уже через четыре столетия только собственно русских было в два раза больше, чем французов, считая здесь французов канадских и африканских. Такого прироста в стране, подверженной голодным морам, не бывает. Русскими становились не по рождению, крови или обличью, а по вере и службе. То есть — по судьбе.
Вот ведь в какие дали и выси унесло меня путешествие по среднерусским рекам и городам. Пора и на землю возвращаться. То есть, на воду. Если с Клязьмы смотреть на Владимир, на золотые купола и мощные зубцы монастырских крепостных стен, то очень легко представить, каким он, город, был семь-восемь веков назад. Конечно, речные откосы сейчас застроены уродскими сараями, складами, кочегарками, густо поросли кустарниками и высокими деревьями.
В древнем Владимире здесь не то что изб и деревьев — даже кустов не было. Все вырубали и расчищали. Чтобы просмотр был полный, чтобы не мог, прячась за кустами, подойти к стенам враг. А такую кручу, да еще под открытым обстрелом, никакой противник не одолеет. А в мирные дни никакое наводнение не страшно городу на высоком берегу. Здесь раньше всего сходит снег по весне и раньше всего уходят вешние воды. Всегда сухо, тепло, нет болотной лихорадки и других болезней от сырости и знобкости. На таком яру весь город всегда продувает ветром, и не висит тучами мошка и комар с речных низин. А если посмотреть с городских стен, то открываются и дальние излуки Клязьмы, и устье, где впадает Нерль, и луга заречные, и леса разноцветные сверкают на солнце...
Вот на каком месте поставлен город Владимир. В сознании древнего человека красота и польза были неразделимы...